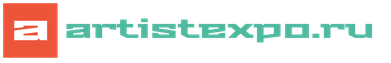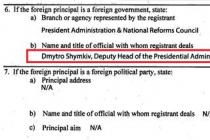За словом "феномен" закрепилось три основных значения:
В греческом языке, откуда это слово заимствовано многими языками, phainomenon значит "являющееся", т.е. в первоначальном смысле слово "феномен" – то же, что явление.
В обыденной речи и средствах массовой информации слово феномен, часто употребляют, когда хотят сказать об особенном, редком, необычном явлении или о выдающемся человеке, обладающем исключительными способностями.
Философское употребление слова феномен очень разнообразное. Уясним себе только основное, а именно: феномен – это нечто переживаемое человеком: иначе говоря, то, что составляет содержание человеческого переживания.
Феномен – это предмет, который непосредственно есть то, что он есть... Непонятно? Например, я вижу вспышку молнии, чувствую при этом восторг или испуг, замираю в ожидании удара грома, дрожу под холодным потоком грозового ливня, – таков образ грозы в моем переживании. А какова гроза в действительности, сама по себе? Совпадает ли она с моими переживаниями?
"Феномен" – одно из центральных понятий феноменологии, философского направления, основанного немецким философом Эдмундом Гуссерлем (1859-1938). Феноменологическая трактовка понятия "феномен" сегодня самая влиятельная, поэтому следует упомянуть о ней хотя бы в самом общем виде.
"Себя-в-себе-самом-показывающее" – такое лаконичное определение понятия феномена сформулировал Мартин Хайдеггер (1889-1976), последователь Э. Гуссерля. Феномен – сам есть то, что он есть. Например, образ молнии, чувство боли, переживание радости. Если мне кажется, что мне радостно, это переживание действительно присутствует во мне. Если у меня возник образ молнии (то ли я ее увидел, то ли померещилось, то ли я ее представил), то этот образ действительно имеется в этот миг. Если я чувствую боль, это переживание действительно имеет место (независимо от наличия или отсутствия объективных причин для боли).
В принципе, наше сознание всегда имеет дело именно с феноменами. То есть все, что мы осознаем (подвергаем осмыслению), есть чувство, образ, переживание, мысль, а не вещь сама по себе. Это не значит, что помимо феноменов не существуют вещи сами по себе ("вещи-в-себе", по Канту). Феномены выступают по отношению к сознанию как непосредственно данная реальность – независимо от того, стоят ли за нею самосущие объекты или нет. Например, феномен кентавра существует (как образ), хотя соответствующего самосущего объекта в природе не выявлено. Таким образом, феноменом можно называть все, что угодно, что бы ни пришло в голову.
Далее возникает вопрос, почему рассматриваются только пять феноменов (игра, смерть, одиночество, коммуникация, любовь). Очевидно, что в число феноменов человеческого бытия могут быть включены также вера, понимание, господство, справедливость, красота, добро и многое, многое другое. Можно ли среди них выделить главные, или первоочередные? Конечно, можно пытаться это сделать, но по существу ни одна классификация феноменов человеческого бытия не может быть строго и однозначно обоснована.
У нас нет "объективных" оснований, чтобы утверждать, что игра "первичнее" или "главнее", чем любовь. Равным образом и любовь не "первичнее" игры (или веры, или счастья и т.д.). Очевидно, следует согласиться с мнением О. Финка, что каждый феномен человеческого бытия "фундаментально независим" от других.
Одиночество.
Кто-то высказал мнение, что ад не так страшен, как одиночество: грешники, хотя и страдают там безмерно, однако "сообща". А вот мнение писателя Дж. Конрада: "В смерти нас пугает не то, что исчезнет сознание, – ведь не боимся же мы засыпать каждую ночь, а то, что мы останемся одни, в совершенной изоляции и полной темноте".Художественная литература весьма богата описаниями переживаний одиночества (вспомним произведения М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Д. Дефо, Дж. Лондона и др.). Что же касается философской литературы, то здесь тема одиночества представлена не столь широко. Можно заметить, что затрагивали эту тему философы не всех, а лишь некоторых эпох, или, вернее сказать, эта тема лишь в определенные эпохи "брала за живое", становилась "интересной" для философов. Лишь в XX веке проблема одиночества настолько близко подступила к человеку, что Н.А. Бердяев счел уместным назвать ее основной проблемой человеческой личности и философии человеческого существования.
Мартин Бубер. Путь к одиночеству и самосознанию.
Центральная идея Мартина Бубера (1878-1965), еврейского религиозного философа и писателя, – бытие как диалог между Богом и человеком, человеком и миром ("диалогический персонализм"). Проблему одиночества философ рассматривает в связи с проблемностью человеческого существования вообще.В человеческой истории бывали времена, когда люди не видели в самих себе непостижимой тайны. Мир и люди в нем казались более или менее понятными, не было места чувству тревоги перед неразрешимыми вопросами вроде "что я такое?", "почему я существую?", "для чего я существую?". Человечество просто было не готово к таким вопросам. Сознание должно дойти до какого-то критического пункта в своем развитии, чтобы заметить таинственность человеческого существования. Такой момент, по мнению Бубера, может наступить не раньше, чем человек осознает свое одиночество. Он пишет: "Более всего склонен и наилучшим образом подготовлен к самосознанию... человек, ощущающий себя одиноким, т.е. тот, кто по складу ли характера, под влиянием ли судьбы или вследствие того и другого остался наедине с собой и своими проблемами, кому удалось в этом опустошающем одиночестве встретиться с самим собой, в собственном "Я" увидеть человека, а за собственными проблемами – общечеловеческую проблематику... В леденящей атмосфере одиночества человек со всей неизбежностью превращается в вопрос для самого себя..."
Кто же способен искать ответ на проблему человеческого существования? Те самые люди, которые прошли муку одиночества, смогли одолеть ее, сохранив при этом познавательную энергию, которую дает одиночество.
В истории европейской мысли осознание бесприютности и одинокости человеческого существования возникло не вдруг и не сразу. Этот процесс углублялся от эпохи к эпохе, и с каждой ступенью, по мнению Бубера, одиночество становилось все холоднее и суровее, а спастись от него было все труднее.
Бубер различает в истории "эпохи обустроенности" и "эпохи бездомности". В эпоху обустроенности человек чувствует себя органичной частью космоса – как в обжитом доме. В эпоху бездомности мир уже не кажется гармонически упорядоченным целым, и человеку трудно найти себе "уютное место" в нем, – отсюда чувство неприкаянности и "сиротства".
Самочувствие обустроенности характерно, например, для мышления древних греков. Наиболее полное выражение оно нашло, как полагает Бубер, в философии Аристотеля. Мир тут представляется замкнутым пространством, этаким "домом", где человеку отведено определенное место. Человек тут – вещь наряду с другими вещами, наполняющими мир; он не кажется себе непостижимой тайной; он не гость в странном и непонятном мире, а обладатель собственного угла в мироздании. В рамках такого мировоззрения нет предпосылок для того, чтобы человек осознавал себя фатально одиноким.
Первым, кто по–новому поставил вопрос о человеке – не как о вещи среди вещей, по мнению М. Бубера, был Августин Аврелий (354-430), живший в эпоху, когда под влиянием формировавшейся христианской картины мира рухнуло аристотелевское представление о шарообразном едином мире. Место погибшей сферической системы заняли два независимых и враждебных друг другу царства – царство Света и царство Мрака. Человек, состоящий из души и тела, был поделен между обоими царствами, стал полем битвы между ними, оказался как бы в подвешенном, бесприютном положении. "Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя?" – вопрошает Августин. Он называет человека великой тайной. Именно эпоха бездомности могла побудить Августина удивиться бытию человека, не подобного прочим тварям вселенной и занимающего особое положение в мире.
Однако в дальнейшем христианская вера и мысль создали новый космический дом для одинокой души после-августиновского Запада. Христианство "обустроилось", его мир стал даже еще более замкнут, чем мир Аристотеля, ибо теперь не только пространство, но и время было представлено замкнутым, имеющим окончание в день Страшного суда. Строительство христианского "дома" увенчалось учением Фомы Аквинского (1225-1274), в котором вопрос о природе человека уже не казался проблемой. "Антропологический вопрос снова удаляется здесь на покой, – пишет М. Бубер. – У обустроенного и беспроблемного человека едва ли проснется когда-нибудь желание очной ставки с самим собой..."
В конце средневековья и начале Нового времени стройная картина мироздания вновь дрогнула. В философии Николая Кузанского (1401-1464) мир был представлен бесконечным в пространстве и времени, а Земля, следовательно, лишилась центрального положения. Довершил разрушение средневековой схемы Николай Коперник (1473-1543), без обиняков объявивший Землю рядовой планетой Солнечной системы. Земная твердь начала утрачивать роль незыблемого фундамента всего мира: она сама подвешена в невообразимой бесконечности. Человек в этом мире оказался беззащитным перед бездной бесконечности. Эту несоизмеримость человека со Вселенной "с непревзойденной и поныне ясностью" прочувствовал и выразил, по мнению М. Бубера, Блез Паскаль.
В результате перемен в мировоззрении, происшедших в Новое время, личность "стала бездомной посреди бесконечного". "...Был расторгнут изначальный договор Вселенной и человека, и человек почувствовал, что он в этом мире пришелец и одиночка". С тех пор "идет работа над новым образом мироздания, но не над новым мировым домом... Человеческого жилища из этой Вселенной уже не выстроить". Поколению, которому предстоит выработать новую космологию, придется, считает Бубер, отречься от всякого образа мироздания и жить в неизобразимом мире (новый образ мира – никакого образа). Космос Эйнштейна можно помыслить, но нельзя вообразить. Человек вынужден принять как факт свою бездомность и затерянность во Вселенной.
Наконец, XX век, с его глобальными потрясениями, вполне открыл человеку глаза на его бесприютное, негарантированное существование. М. Хайдеггер, назвавший язык домом бытия, уже не строит ни космического, ни социального "дома". У Хайдеггера одиночество человека мыслится как благо, позволяющее ему быть самим собой. Одиночка Хайдеггера ищет общения только с самим собой.
Так М. Бубер излагает путь, приведший современную философию к представлению о фатальном одиночестве человека.
Итак, XX век породил, по словам Бубера, "невиданное по своим масштабам слияние социальной и космической бездомности, миро- и жизнебоязни в жизнеощущении беспримерного одиночества. Личность чувствует себя одновременно и подкидышем природы, брошенным, подобно нежеланному ребенку, на произвол судьбы, и изгоем посреди шумного человеческого мира".
Есть ли выход из тупика одиночества? Реакциями на новую ситуацию бездомности оказались индивидуализм и коллективизм. Первая реакция – индивидуализм, – чтобы спастись от отчаяния, поэтизирует одиночество. Индивидуалист принимает его как рок и пытается внушить себе "любовь к року". Это – иллюзорное решение, ведь чтобы справиться с ситуацией, одной лишь ее поэтизации недостаточно.
Вторая реакция – коллективизм – состоит в том, что личность, спасаясь от одиночества, пытается раствориться в каком-нибудь большом групповом образовании. Но это растворение само по себе не дает единения личности с личностью.
Эпоха индивидуализма, по мнению Бубера, уже миновала, а коллективизм находится на вершине своего развития, но и в нем уже видны признаки вырождения. Ни тот, ни другой не решают проблемы одиночества, и выбор одного из этих двух – это ложная альтернатива. Подлинным решением является "Третье" – диалогическое существование человека с человеком. Это "Третье" Бубер называет сферой "Между". Сфера "Между" – это как бы узкая кромка, на которой происходит встреча Я и Ты. Познание сферы "Между" и должно помочь человечеству в преодолении одиночества.
Блез Паскаль. Бегство от себя в развлечения.
Люди опасаются бывать наедине со своими мыслями и потому ищут спасения от одиночества в развлечении, – к такому выводу пришел Блез Паскаль. Он обратил внимание на какую-то несуразицу в поведении людей: вместо того чтобы предаваться праздному покою, о котором нередко им приходится мечтать, они неудержимо тянутся к "развлечениям", часто хлопотным, дорогостоящим и даже опасным для жизни (например, война). Эта странность весьма озадачивала философа, пока он не пришел к мысли: истинный смысл всяческих авантюр не в достижении тех целей, которые ставят перед собою люди, а в бегстве от самих себя. Люди почему-то опасаются оставаться наедине с собой.Причина тяги к развлечениям "коренится в изначальной бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, что стоит подумать об этом – и уже ничто не может нас утешить", – считает Паскаль.
Эти "хрупкость и ничтожность" человека открываются ему, когда он пробует понять, что такое "я", каково место человека в мире. "Ибо что такое человек во Вселенной? – спрашивает Паскаль. – Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, среднее между всем и ничем. Он не в силах даже приблизиться к пониманию этих крайностей – конца мироздания и его начала, неприступных, скрытых от людского взора непроницаемой тайной, и равно не может постичь небытие, из которого возник, и бесконечность, в которой растворяется".
Потрясенный тайной безмерного (человек) в безмерном (Вселенная), Паскаль после чрезвычайно плодотворной деятельности в области точных наук обратился к проблемам человеческого бытия и религии. В то время как интеллектуалы его века со страстью и упоением разгадывали загадки природы, ум Паскаля окунулся в тайну непостижимую, о которой природа никогда не даст ответа. "Меня ужасает вечное безмолвие этих пространств", – признавался он.
Непостижимая безмерность мира послужила для Паскаля тем зеркалом, в котором он увидел свое "я", возникшее однажды к бытию и падающее в бездну, перед которой человек одинок и ничтожен. Человек – всего лишь "мыслящий тростник" во Вселенной, и совсем не требуется всей ее невообразимой мощи, чтобы уничтожить его, – достаточно и ничтожнейшего ее движения. "Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, и о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мной, пространства, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне не ведомых и не ведающих обо мне, – я трепещу от страха и спрашиваю себя, – почему я здесь, а не там, ибо нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде. Чей приказ, чей помысел предназначил мне это время и место?"
Вот вопросы, которые могут одолевать человека, когда он остается наедине с самим собой. Большинство людей, едва заглянув в глубины своего "я", спешат отвернуться, ибо при взгляде в себя теряется опора, "заложенный нами фундамент дает трещину, земля разверзается, а в провале – бездна".
Верным прибежищем для людей от их уединенных дум служат игры и развлечения. К ним Паскаль относит не только собственно развлекательные занятия вроде карточных игр или охоты, или болтовни с женщинами, но и исполнение служебных обязанностей, участие в войне.
Охотники, например, могут целый день гонять несчастного зайца, которого погнушались бы купить без всяких хлопот. Есть чему удивиться, если подумать, но "все дело в том, что заяц не спасает от видения грядущих горестей и смерти, меж тем как охота на него спасает, не оставляя досуга ни для каких мыслей". Для охотников "цель – сама охота, а не добыча". Или вот, например, господин, недавно утративший сына и убитый горем, еще утром подавленный тяжбой и дрязгами, теперь, позабыв все на свете, поглощен вопросом, куда ринется вепрь, которого уже шесть часов травят собаки.
Люди стремятся занимать служебные посты, доставляющие немало хлопот, потому что к ним стекаются посетители, не оставляя времени подумать о себе. Зато, попав в опалу, принужденные удалиться в свои богатые, полные слуг поместья (живи и радуйся!), они чувствуют себя несчастными и покинутыми: теперь-то им, увы, никто не мешает отдаваться мыслям о собственной судьбе.
Парадокс человеческого существования Паскаль видит в том, что "мы преодолеваем препятствия, дабы достичь покоя, но, едва справившись с ними, начинаем тяготиться этим покоем, ибо ничем не занятые попадаем во власть мыслей о бедах уже нагрянувших или грядущих".
В суждениях Б.Паскаля, таким образом, феномен одиночества предстает как неприкаянность человека в бесконечности Вселенной и как неуютность человека наедине с мыслями о себе самом.
Генри Торо. Различение понятий одиночества и изоляции.
Трансценденталисты первыми в истории западной мысли стали проводить различение между одиночеством и уединением. Заметный вклад в разработку этой темы внес философ, писатель и натуралист Генри Дэвид Торо (1817-1862).По мнению трансценденталистов, человеческая личность содержит в себе беспредельное духовное богатство, которое сковано мещанско-обывательской средой; для его раскрепощения необходимо уединение и близость с природой. Генри Торо, следуя этому мировоззрению, прожил два с лишним года в лесной хижине и описал свой "опыт" в известной книге "Уолден, или Жизнь в лесу" (1854).
"Я нахожу полезным проводить большую часть времени в одиночестве. Общество, даже самое лучшее, скоро утомляет и отвлекает от серьезных дум". Торо замечает о себе, что никогда он не чувствовал себя одиноким и не бывал подавлен этим чувством. Осознавая себя включенным в единство мира, он восклицал: "Отчего бы мне чувствовать себя одиноким? Разве наша планета не находится па Млечном пути?" "Я не более одинок, чем мельничный ручей, или флюгер, или Северная звезда, или южный ветер, или апрельский дождь, или январская капель, или первый паук в новом доме".
Уединение от людей на лоне природы Торо расценивал не как замкнутость, а, напротив, как вступление в общение и единство с величественным космосом, восприятие в себя его величия, гармонии, чистоты. Природа сама по себе – "сладостное и благотворное общество". Для человека наиболее необходима не близость к толпе, а близость к природе как "вечному источнику жизни: так, ива растет у воды, и именно к ней тянется своими корнями. Для разных натур это будут разные места, но тут-то и должен копать свой погреб истинный мудрец..."
Проводя различие между одиночеством и уединением, Торо придавал первому отрицательное, а второму положительное значение. Одиночество, в его понимании, это болезненная оторванность человека от природы, отчуждение от самого себя как частицы мировой гармонии, возникающее в толпе, в будничной суете общественной жизни. "Мы часто бываем более одиноки среди людей, чем в тиши своих комнат". "Мы живем в тесноте и спотыкаемся друг о друга и от этого, мне думается, несколько теряем друг к другу уважение. Для подлинно важного и сердечного общения такая частота не нужна". Уединение, в отличие от одиночества, благотворно. Оно – не убежище от мира, а, напротив, путь к миру, условие для самопознания и самосовершенствования.
Уединение и одиночество Торо отличает также от физической отдаленности человека от других: "Одиночество не измеряется милями, которые отделяют человека от его ближних. Истинно прилежный студент так же одинок в шумном улье Кембридж-колледжа, как дервиш в пустыне".
Занимаясь своим делом, человек не чувствует себя одиноким. Его дело имеет определенный смысл, и этим смыслом наполняется существование человека в часы труда. Одиночество же гнетет нас, когда мы оторваны от смысла.
"Фермер может весь день проработать один в поле или в лесу мотыгой или топором и не почувствовать одиночества, потому что он занят делом, а вернувшись вечером домой, он не может оставаться наедине со своими мыслями, и ему хочется побыть "на людях". Тот же фермер, однако, не понимает ученого, "который способен просидеть один в доме всю ночь и большую часть дня, не боясь скуки и хандры". А по сути дела, считает Торо, и тот, и другой бывают в одной и той же ситуации: "Когда человек думает или работает, он всегда наедине с собой, где бы он ни находился".
Нетрудно заметить, что в приведенных высказываниях Г. Торо имеется нечеткость терминов: слово "одиночество" употребляется в различных смыслах: то как уединение человека с природой, то как переживание индивидом своей чуждости толпе. Эта нечеткость объясняется романтическим духом трансценденталистов, стремлением не столько к строгому, "академическому" анализу понятий, сколько к интуитивному их схватыванию. Тем не менее понятийное различие между одиночеством, уединением, изоляцией трансценденталисты уже наметили, хотя и не выразили в четкой терминологии.
У трансценденталистов есть определенное сходство с представителями экзистенциальной философии (о которой сейчас пойдет речь) в оценке уединения: и те, и другие считают его благотворным для человеческой личности. Расхождение между ними в трактовке одиночества основано на разном видении мира и места человека в нем: трансценденталисты, в отличие от экзистенциалистов, воспринимают мир как гармоничное целое, чувствуют себя в нем "как дома". Поэтому трансценденталисты далеки от мысли об "изначальном одиночестве" человека; по мнению Г. Торо, "мы никогда не бываем одиноки". Экзистенциальная философия, напротив, пронизана настроением человеческой "бездомности".
Изначальное одиночество человека в экзистенциальной философии.
Для экзистенциальной философии (в различных ее вариантах) характерно стремление показать, что чувство одиночества не является результатом чисто внешних и случайных обстоятельств жизни человека, но коренится в самом его бытии, в способе существования "я". В этом смысле бытие личности изначально является одиноким, обособленным, даже если сам себя человек одиноким не чувствует.Эта изначальная обособленность человеческого бытия представляется экзистенциалистами в двух аспектах, которые можно обозначить как "одиночество-неслиянность" и "одиночество-ответственность".
"Одиночество-неслиянность" рассмотрим на примере суждений испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета (1883-1955). По его мнению, одиночество коренится в самом способе бытия человеческой личности. Жизнь каждого из нас неотчуждаема, т.е. никто не может прожить за меня мою жизнь. Скажем, если у меня болят зубы, невозможно "одолжить" другому хотя бы частицу этой боли; никто не может за меня стать умным; если мой знакомый понимает что-то непонятное мне, я не могу взять его понимание, как какую-то вещь, и переложить в свою голову, а вынужден сделать усилие и понять сам (хотя бы и при помощи чьих-то объяснений). Все это означает, что я не в состоянии отдать кому-то мое "я" и не в состоянии присвоить себе ни малейшей крупицы чужого "я". "Я" – подлинно неделимое и неотделимое. "...Человеческая жизнь... – пишет Ортега, – именно в силу своей неотчуждаемости по сути есть одиночество, изначальное одиночество".
Одиночество не означает "быть одному – единственному" (солипсизм), – как раз единственность не имеет ничего общего с одиночеством. Понятие одиночества предполагает, что "я" существую в мире, что мир есть – минералы, растения, животные, другие люди. И "я" должен налаживать отношения со всем этим, искать согласованности своего существования с другими существованиями, искать единства, но не такого, какое возникает у двух жидкостей, слитых в один сосуд, а единства принципиально неслиянных существований.
Моя отделенность от других "я" обусловлена и тем, что у меня – свое тело, локализованное в пространстве, не позволяющее мне быть вездесущим. "Каждое мгновение пригвождая меня к определенной точке, оно делает меня изгнанником по отношению к прочему... Я могу изменить место моего нахождения, но, где бы оно ни находилось, это будет мое "здесь". По-видимому, здесь и я, я и здесь, связаны на всю жизнь".
Я способен видеть и понимать мир только из своего "здесь". Невозможно видеть мир "вообще", не занимая определенного "здесь" в этом мире, и мое видение всегда есть определенная "перспектива", открывающаяся из данной, занимаемой мною точки. Никто не может видеть мир вместо меня: даже если кто-то встанет на то место, где был я, теперь уже будет смотреть он и будет видеть по-своему. "Наши "здесь" взаимоисключающи, непроницаемы друг для друга, различны, и перспектива, в которой предстает для нас мир, – разная. Поэтому наши миры никогда не могут совпасть полностью. Я с самого начала нахожусь в своем; он в своем. В этом еще одна причина изначального одиночества".
Ф. Ницше, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер и другие нередко используют понятие "горизонта", т.е. индивидуальной (у каждого – своей) картины мира. Один и тот же предмет люди видят и оценивают не совсем одинаково: образ предмета в нашем восприятии зависит от особенностей "горизонта" каждого из нас. Значение предмета (вещи, символа) определяется его соотношениями со всеми другими "предметами", соприсутствующими в нашем "горизонте". Поскольку "горизонт" у каждого свой и обменяться ими нельзя, постольку невозможно и совершенно одинаковое понимание одной и той же вещи, но понимания разных людей могут приближаться друг к другу по мере сближения их "горизонтов". Несовпадение "горизонтов" – это еще одно выражение "одиночества-неслиянности" индивидов.
"Одиночество-ответственность". Другой аспект обособленности человеческого бытия, пожалуй, наиболее выразительно представлен в работах французского экзистенциалиста Жан-Поля Сартра (1905-1980).
Мы совершенно одиноки в выборе своих поступков. Я не в состоянии ни на кого переложить, тяжесть принятия моего решения и ответственность за это решение. Я обречен выбирать сам. На первый взгляд может показаться, что Сартр "сгущает краски": разве не могу я с кем-то советоваться, разве не бывает так, что приходится выполнять "распоряжение сверху", когда "от меня ничего не зависит", разве не существует твердо установленных норм морали, или предписаний религии, или табу, которые безусловно определяют, что нужно делать, а от чего воздерживаться? Бесспорно, все это имеет место в жизни, но лишь как обстоятельства, при которых все-таки решаю я сам. Я могу последовать совету или нет, могу не подчиниться приказу, пренебречь общепринятой моралью, нарушить религиозную заповедь или табу. "Могу" – не в том смысле, что "мне за это ничего не будет", а в том, что в человеческой "натуре" не заложено наперед, как себя вести.
Когда ремесленник изготовит какую-то вещь (например, нож), то ее назначение и способ ее действия заранее предопределены. Человек, в отличие от вещи, пока жив, никогда не завершен, он все время "делает" и переделывает сам себя, т.е. определяет свои поступки. Никто не является раз и навсегда трусом или храбрецом: в каждый данный момент – "здесь и теперь" – человек заново решает, поступить ему храбро или трусливо. В этом и состоит смысл знаменитого сартровского тезиса: "Человек обречен быть свободным".
"Свобода" в этом смысле оказывается не тем благом, за которое нужно с кем-то бороться, а роковой неизбежностью. Всегда решать самому за себя – значит быть абсолютно одиноким в выборе. Мы не можем оправдываться за свой выбор, ссылаясь на совет друга пли священника – мы сами просим совета и сами следуем ему. Не можем оправдываться Моралью – мы сами выбираем, придерживаться ее или нет. Не можем оправдываться "знамением" – мы сами придаем ему тот или иной смысл. Не можем оправдываться Богом, и вовсе не потому, что Он, может быть, есть, а может, и нет, а потому, что даже Он не мог бы принимать решений за меня. "...Даже если бы Бог существовал, это ничего бы не изменило", – замечает Сартр, и в его словах нет "атеистического ехидства", а есть драматическое осознание абсолютной ответственности человека за свои поступки.
"Одиночество – ответственность" так же изначально и неотвратимо, как "одиночество-неслиянностъ". Оно не является временным "настроением" человека, зависящим от внешних обстоятельств, а коренится в самом бытии человеческого "я". Оно обусловлено неотъемлемой от человека его свободой. "Мы одиноки, и нет нам извинений", – так характеризует Ж.-П. Сартр человеческое бытие.
У представителей экзистенциальной философии есть немало высказываний и по поводу "одиночества – уединения", в котором они склонны видеть положительное значение. С точки зрения С. Киркегора, "один человек для другого не может быть ничем иным, как лишь препятствием на его пути" "масса людей – это "звери или же пчелы", и потому "бойся дружбы"; ценность опыта одиночества в том, что он ведет человека к Богу. Одиночество прославляет также Ф. Ницше в "Антихристианине", "Заратустре" и других произведениях. И по мнению М. Хайдеггера, человеческое пребывание в мире может быть подлинным только при условии дистанцирования от "люда". Для Ж.-П.Сартра ценность уединения определяется тем, что ад – это "другие" люди, ведь "другой" с его свободой – препятствие, ограничение моей свободы, которую губит, отчуждает "внешний" взгляд "другого".
Понятие одиночества в философии и психологии.
Понятие одиночества, как видно из предшествующего изложения, наделено у разных авторов в чем-то близким, но не одинаковым содержанием. Очевидно, сам феномен одиночества многомерен. Резюмируя сказанное выше, мы можем выделить те аспекты, в которых этот феномен рассматривается в философии:одиночество-"бездомность" – это неопределенность роли и смысла человеческого пребывания в мире; неприкаянность человека в бесконечности; отсутствие предустановленной гармонии человека с миром (Паскаль, Киркегор, Ницше, Бубер, экзистенциалисты);
одиночество-неслиянность – это изначальная и неодолимая обособленность существования "я" от других существований (феноменология, экзистенциализм);
одиночество-ответственность – это "обреченность" каждого человека на самостоятельный выбор образа действия, невозможность переложить ответственность за свой выбор на другого (Сартр и другие экзистенциалисты);
одиночество-уединение – это добровольное избегание контактов с другими людьми, преследующее цель сосредоточиться на каком-то деле, предмете, самом себе (Торо и др.).
Одиночество как предмет исследования представляет интерес не только для философии, но также для психологии, социологии. Чем отличаются подходы этих научных дисциплин к явлению одиночества от философского подхода?
Психологи и социологи особое значение придают изучению эмпирических закономерностей этого явления; например, проводят опросы, выявляют степени подверженности одиночеству людей, принадлежащих различным возрастным, профессиональным категориям, определяют факторы, способствующие усилению или ослаблению чувства одиночества. Философию же интересуют не особенности переживаний чувства одиночества у тех или иных индивидов, не случайные и преходящие причины данного явления (которые могут быть, а могут и не быть), а те общие глубинные "бытийные" и духовные основания, из которых произрастают эти чувства.
Вместе с тем понятно, что философский, психологический и социологический подходы дополняют друг друга и дают отображение феномена одиночества в его многомерности. Исходя из обобщенной картины, мы можем выделить четыре его модуса: космическое, культурное, социальное, межличностное одиночество.
Космическое одиночество – это переживание человеком своей отдаленности от "всеобъемлющей" сущности, каковой может представляться природа, космос, мир; Бог, «высший разум», «человеческая история»(Здесь имеется в виду душевное состояние человека, осознающего, что его "жизненная программа" остается нереализованной, что его личность не замечена обществом, что он не оставил "свой след в истории".)
Культурное одиночество – переживания человека, связанные с тем, что его ценности, идеалы, представления о должном, сформировавшиеся в определенной культурной среде, не находят отклика и понимания у окружающих людей. Ситуации, в которых у человека возникают такого рода переживания, могут быть обусловлены следующими факторами:
миграция (переезды людей на жительство в другую страну, город, деревню);
быстрая переориентация общества на новые ценности (чаще всего в связи с революциями, крупными реформами. В таких ситуациях типичны "конфликты отцов и детей", представляющих старую и новую культуру);
быстрое интеллектуальное развитие отдельной личности, делающее проблематичным общение с близкими прежде людьми (пример – Мартин Иден, герой романа Дж. Лондона).
Социальное одиночество – переживания человека, обусловленные исключением его из определенной группы или невозможностью вступления в группу. Такого рода ситуации чрезвычайно многообразны. Назовем наиболее распространенные: увольнение с работы, отставка, выход на пенсию, исключение из команды, остракизм, неприятие коллективом по новому месту работы и т.п. Наиболее подвержены социальному одиночеству люди, относящиеся к двум возрастным группам – подростки и старики: первые испытывают острую потребность впервые обрести друзей, но еще не имеют необходимых навыков общения; вторые, в силу преклонного возраста, покидают привычные и обжитые сферы деятельности, утрачивают прежних друзей.
Межличностное одиночество – переживание человеком утраты или недостатка духовной связи с другой конкретной, единственной и неповторимой личностью (близкий родственник, друг, любимый).
Рассмотренная классификация модусов одиночества не претендует на методологическую непогрешимость, но вместе с тем она может быть полезна, когда нам понадобится проанализировать причины неудовлетворенности жизнью конкретного человека и попытаться найти выход из тягостного душевного состояния. Одиночество многомерно, и важно уметь различить конкретный модус одиночества данного человека. Специалисты отмечают, что одиночество может иметь своими последствиями тяжелые расстройства личности, состояние "экзистенциального вакуума", депрессию, самоубийство, антиобщественное поведение. Отсюда понятна растущая озабоченность и стремление глубже изучить это явление.
Коммуникация.
Термин "коммуникация" (от лат. communicare – делать общим, сообщать) в широком смысле обозначает пути сообщения и средства связи, а также процесс общения, передачи информации.В этом разделе речь пойдет о коммуникации как общении между индивидами. Причем – не о равнодушном "обмене информацией", как у каких-то кибернетических устройств, а о таком общении, которое затрагивает потаенные глубины человеческой личности.
В XX веке в числе первых к этой проблеме обратился К. Ясперс. В коммуникации он видел путь к подлинно человеческому существованию и придавал ей настолько важное значение, что свод его трудов уместно назвать "философией коммуникации".
Философия коммуникации К. Ясперса.
Немецкий философ Карл Ясперс (1883-1969), один из основателей экзистенциализма, начинал свою деятельность как врач-психиатр. Работая в психиатрической клинике Гейдельберга (1908-1915), он пришел к пониманию того, что общепринятые методы лечения душевнобольных недостаточно затрагивают саму душу больного.Нередко врач обращается с больным как с предметом, как с механизмом, который нужно "подремонтировать". При диагностировании больного такой врач полагается главным образом на "объективные данные", игнорирует личность больного и не считает нужным посвящать его в ход дела. Эффективность лечения при таком обращении невысокая, ведь врач не принимает во внимание душу человека, от которой тело зависит не меньше, чем она зависит от тела.
Более адекватно, по мнению Ясперса, действует врач, который делится с больным своими мыслями, учитывает воздействие своих слов, обращается к нему как к мыслящему существу. Врач и пациент при этом становятся как бы коллегами, равными, – они оба равны как мыслящие существа. Но и такой подход все же недостаточен: он затрагивает только "верхний слой" души – рассудок, а подлинные глубины личности пациента все еще остаются скрытыми от врача. Даже психоаналитический метод Фрейда, ставший в то время знаменитым и претендовавший на проникновение в глубины психики, все же остается, по мнению Ясперса, поверхностным. Психоаналитик тоже рассматривает больного как объект, а не личность.
Необходим иной способ общения – экзистенциальная коммуникация, при которой врач по отношению к больному выступает не как "техник" или аналитик, а как экзистенция по отношению к другой экзистенции. Эти идеи Ясперс высказал в своей диссертации "Общая психопатология" (1913), они определили и дальнейшее его творчество.
Ясперс различает в человеческом "я" несколько уровней, и каждому из этих уровней соответствует свой способ общения:
1. эмпирическое "я". Это – "я", отождествляющее себя (и "я" других людей) с природным телом. Эмпирическое "я" подчинено инстинкту самосохранения, стремится к удовольствиям и избегает страданий, – в общем преследует утилитарные цели. Эмпирический индивид относится к другим людям как к средству для удовлетворения своих потребностей. Потому и общение индивидов на этом уровне является не целью, а только средством для самосохранения, безопасности, наслаждения;
2. сознание вообще. На этом уровне "я" осознает себя носителем знаний. Рассудочное "я" мыслит категориями, научными понятиями, стремится к правильности мышления и поведения, подчиняется общезначимым нормам. Индивиды на уровне "сознания вообще" различаются между собой количеством усвоенных знаний, а "качественно" все считаются равными. Общение между ними основано на формально-правовом принципе "равенства всех перед законом" и представляет собой "обмен мыслями""
3. "я" на уровне духа. Это – "я", осознающее себя частью целого (народа, нации, государства), чем-то особенным. В сфере духа, писал Ясперс, "отдельный индивид осознает себя стоящим на своем месте, которое имеет свой особый смысл внутри целого и определяется последним. Его коммуникация – это коммуникация отдельного члена с организмом. Он отличается от всех остальных, но составляет с ними одно в объемлющем их порядке".
Указанные три уровня сознания и три типа коммуникации необходимы человеку как существу биологическому, мыслящему и социальному. Однако они не охватывают всего человеческого существа целиком, не затрагивают самых глубоких и интимных сторон души. Наиболее глубокий уровень "я", четвертый, это – экзистенция. Этому уровню соответствует экзистенциальная коммуникация.
Экзистенция – такой уровень человеческого бытия, который не может быть предметом научного исследования. Она необъективируема, т.е. никогда не может быть представлена как объект рассмотрения. Вот как объясняет это сам Ясперс: "В любой момент, когда я делаю себя объектом, я сам одновременно есть нечто большее, чем этот объект, а именно существо, которое себя таким образом может объективировать". Рассматривая себя в той мере, в какой я могу быть представлен как объект, я "теряю себя, смешиваю то, чем я выступаю для себя, с тем, чем я сам могу быть".
И вот как раз коммуникация позволяет экзистенции, самой по себе необъективируемой, быть "услышанной", понятой другим человеком. Общение с другими – единственный способ обнаружения моей экзистенции не только для других, но и для меня самого. Проще говоря: когда я "открываю душу" другому человеку, я и сам себя начинаю лучше понимать.
В коммуникации одной экзистенции с другой мы каким-то особым чутьем взаимно проникаем друг в друга, сопереживаем и воспринимаем другого как ценность – не только за его телесные достоинства или за его знания и ум, или за ту роль, которую он играет в обществе, но и за нечто неуловимое, существующее сверх того (порой мы ценим и любим человека как бы "вопреки всему"). Именно в такой коммуникации наши незримые, необъективируемые экзистенции проявляют себя друг для друга как реальность.
Коммуникация позволяет нам воспринимать и ценить "душу" другого. Когда я, благодаря коммуникации, осознаю свою и другую экзистенцию как ценность, тогда я сам, т.е. свободно, ограничиваю свой произвол по отношению к другому и к себе.
Экзистенциальная коммуникация – высший тип общения. Она не отвергает трех низших ступеней, а опирается на них как на свои предпосылки. Три низшие типа общения наиболее часто встречаются в нашей жизни. Бывает, мы удивляемся и завидуем "коммуникабельности" некоторых людей, которые непрестанно и легко заводят с кем-нибудь разговоры, однако обильная общительность еще не означает подлинной глубины коммуникации, а, возможно, даже и обкрадывает нас. Множество легких, непринужденных, приятных, остроумных, даже, может быть, глубокомысленных разговоров все-таки могут так и не раскрыть нам самого важного и интересного в нашем собеседнике.
И все-таки как же возможна экзистенциальная коммуникация? Каким образом принципиально неслиянные и необъективируемые экзистенции способны понять друг друга? Вероятно, должна быть какая-то общая для них "точка отсчета", т.е. нечто интерсубъективное, задающее единые "координаты понимания".
Ответы на эти вопросы К.Ясперс дает при помощи понятий "конечность", "историчность", "ситуация", "философская вера". "Человек, – писал он, – находит в мире другого человека как единственную действительность, с которой он может объединиться в понимании и доверии. На всех ступенях объединения людей попутчики по судьбе, любя, находят путь к истине, который теряется в изоляции, в упрямстве и своеволии: в замкнутом одиночестве". Чувство хрупкости и конечности бытия друг друга обостряет потребность в сближении и взаимопонимании. А что подразумевает Ясперс под словом "конечность"? Это: 1) смертность человека, 2) его связанность с другими людьми в данном историческом мире, 3) ограниченность его сознания его опытом. Конечность экзистенции является предпосылкой ее историчности, т.е. того, что человек всегда существует не "вообще", а в определенной ситуации.
Итак, условием для того, чтобы экзистенциальная коммуникация между личностями стала возможна, является "общая ситуация". От исследования коммуникации на межличностном уровне К. Ясперс в дальнейшем перешел к вопросу о возможности и условиях коммуникации в общечеловеческом масштабе, т.е. о предпосылках взаимопонимания людей, принадлежащих разным культурам, нациям, религиозно-мировоззренческим ориентациям. Что же здесь может служить общей точкой отсчета для взаимопонимания, если "ситуации", скажем, у греков и у китайцев весьма несхожи? Представители разных культурных традиций по-разному осмысливают "одни и те же" события, т.е., даже будучи вовлеченными в "одно и то же" событие, пребывают в разных "ситуациях".
Уместно сделать допущение, что основой взаимопонимания способны служить "объективные" (научные, математические) знания о мире. В известных пределах это допущение справедливо. Однако, как мы уже знаем, научные знания не охватывают экзистенцию. Даже при совпадении научных воззрений люди могут быть совершенно чужды друг другу в экзистенциальном плане.
Философская вера, в отличие от религиозной, является общей для людей. Она одинакова для людей независимо от их принадлежности к той или иной культуре. Она объединяет, а не разъединяет. Все люди равны в незнании. Перед лицом трансценденции никто не может претендовать на исключительность. Именно люди, "знающие о своем незнании" (это – формула Сократа), т.е. обладающие философской верой, способны к подлинной коммуникации. Едва кто-нибудь из нас вообразит себя обладателем безусловной истины и борцом за нее, экзистенциальная коммуникация нарушается: "...С борцами за веру говорить невозможно", – подчеркивает Ясперс.
Обращаясь к истории человечества, Ясперс отмечает, что философская вера впервые возникла примерно между 800-200-ми годами до н.э., причем одновременно в разных регионах планеты – в Китае, Индии, Персии, Палестине и Древней Греции. В этот период завершается эпоха мифологического мировосприятия с ее самоуспокоенностью и само-собой-понятностью, люди пробуждаются к отчетливому мышлению, к рефлексии, положив начало философскому мышлению. Этот период Ясперс назвал "осевым временем", подразумевая, что отсюда берет начало общая история человечества ("ось") как духовное единство представителей разных народов перед предельными вопросами о смысле бытия, т.е. о трансценденции. Озабоченность именно такими вопросами делает возможной подлинную (экзистенциальную, духовную) связь между народами и культурами.
Коммуникация культур и национальностей является, по мнению Ясперса, важнейшим в современной ситуации средством предотвращения столкновений. Коммуникация противостоит чьим угодно претензиям на исключительность, ей претит любая нетерпимость (кроме одной: "нетерпимость против нетерпимости").
Значение идей Ясперса о коммуникации культур станет особенно понятным для читателя, если упомянуть о том, что свои работы немецкий философ писал, находясь в Германии, в период приближения, а затем разгула и агонии "коричневой чумы".
Диалогический персонализм М. Бубера.
Центральная идея Мартина Бубера – бытие как диалог между Богом и человеком, человеком и миром ("диалогический персонализм"). В диалоге с Ты человек обретает свое Я, свой смысл и судьбу; подлинная жизнь свершается во встрече; встреча с миром в Боге преодолевает отчужденность человека от мира, дарит ему чувство вселенского дома – таковы его основные тезисы.Человек двойствен, – говорит Бубер, – наше Я существует не само по себе, а только в соотнесении с чем-то. В одних случаях человеческое Я выступает в соотнесении с Ты, в других случаях – в соотнесении с Оно. И соответственно мы имеем два разных Я, а именно: Я-ТЫ и Я-ОНО. Вследствие своей двойственности человек двояко видит мир.
Мир для Я-ОНО – это объекты познания, противостоящие субъекту и равнодушные к нему. "Мир не сопричастен процессу познания. Он позволяет изучать себя, но ему нет до этого дела..." Безличное знание о мире локализуется в человеке, а не между ним и миром.
Напротив, мир Я-ТЫ – это мир отношений, мир встречи человека с иным существованием, это живая сопричастность Я и Ты, это бытие между Я и Ты.
В человеческом существовании Я не изначально; первичным является отношение человека к иному существующему. Человек находит, вернее, формирует свое "я" благодаря встречам с Ты. То, что является нам, приходит и уходит, и как раз в этой смене событий возникает осознание Я, которое отличается от явлений тем, что не приходит и не уходит, а всегда присутствует. Таким образом, отношение первично по сравнению с Я.
Мир отношений возможен, по мысли Бубера, в трех сферах: первая сфера – жизнь с природой, вторая – жизнь с людьми, третья – жизнь с духовными сущностями. В первой сфере отношение еще не доходит до уровня языка, во второй оно принимает речевую форму, а в третьей оно по форме безмолвно, однако "порождает язык".
Можно на вещи смотреть просто как на вещи, познавая их свойства, используя их. Так же можно смотреть на животных, на людей. Познающий взгляд необходим, иначе мы не смогли бы жить в мире. Однако такому взгляду не открывается другое существование во всей его целости. При "вещном" взгляде на человека я отмечаю, например, цвет его волос или глаз, тембр голоса и т.п., но при этом от меня все же скрыто более существенное – он сам. Как только я приступаю к анализу его свойств, он исчезает для меня как Ты, и вместо этого появляется Он или Она – нечто стороннее для меня.
В мире отношений человек обретает свою свободу и судьбу. Свободы нет в мире Оно – тут господствует причинность. Только в присутствии Ты – перед лицом и Ликом – человек способен принимать решение, отвергая причинную обусловленность, а значит, он – свободен. Однако мое деяние свершается не так, как я задумал. "...Свободному, как отражение его свободы, смотрит навстречу судьба. Это не предел его, а его осуществление; свобода и судьба многозначительно обнимают друг друга..." Свобода и судьба неразрывно связаны. Причем судьба, поскольку она выступает в единстве со свободой, отличается от злого рока, т.е. угнетающей, подавляющей причинности мира Оно.
Способ соотношения человека с другими существованиями отличает личность от индивидуальности. Индивидуальность выявляется в обособлении от других индивидуальностей; личность выявляется в отношении с другими личностями. Индивидуальность и личность – не две разновидности людей, но два полюса человечества; каждый из нас, не будучи ни "чистой" индивидуальностью, ни "чистой" личностью, проявляет тяготение к тому или иному полюсу.
Во встречах с Ты мы живем Настоящим. "Бывают мгновения безмолвной глубины, когда мировой порядок открывается человеку как полнота Настоящего. Тогда можно расслышать музыку самого его струения; ее несовершенное изображение в виде нотной записи и есть упорядоченный мир. Эти мгновения бессмертны, и они же – самые преходящие из всего существующего: они не оставляют по себе никакого уловимого содержания, но их мощь вливается в человеческое творчество и в человеческое знание, лучи этой мощи изливаются в упорядоченный мир и расплавляют его вновь и вновь".
Всякое явившееся нам Ты обречено превратиться в Оно, стать снова объектом среди объектов. Но благодаря новой встрече Оно может вновь и вновь превращаться в Ты. Наглядный пример тому – произведение искусства, способное "оживать" под нашим взглядом. "Вновь и вновь... объектное будет воспламеняться, разгораясь в Настоящее, погружаться в стихию, из которой оно вышло, и люди будут видеть и переживать его как Настоящее".
Переживаемое во встрече с Ты Настоящее все же недолговечно, человек не может им насытиться, испытывает разочарования от превращений Ты в Оно и стремится к вечному Ты, к Богу. Только Бог никогда не становится Оно. Но как его обрести? Искать его нет нужды. Нелепо, считает Бубер, покидать свой жизненный путь, уходить от мира, чтобы искать Бога, ведь Он – то Сущее, которое перед нами есть всегда изначально и непосредственно. В каждой встрече с Ты мы видим кромку вечного Ты, все линии отношений сходятся в Нем. Поэтому "кто воистину выходит навстречу миру, тот выходит навстречу Богу. <...> Бог заключает в Себе вселенную, но не является ею; и также Бог включает в Себя мое Я, но не является им".
Человеку не нужно "искать". Бога или "исследовать" Его, размышлять о Нем. Он является как дар, откровение, чтобы подтвердить осмысленность мироздания. Размышляющий только мешает дару свершить свое действие, рефлексия делает Бога объектом. Откровение Бубер понимает как призвание и возложение миссии на человека. Откровение – не "книга", не "знамение", а реальная и действенная перемена, происходящая в человеке благодаря событиям – встречам. Во встречах с Ты человек должен понять свое призвание (миссию). Когда это происходит, вопрос о смысле жизни "снимается".
Мир Ты не обладает пространственно–временной связностью, как мир Оно, однако он имеет связность благодаря Центру, т.е. Богу, к которому сходятся все радиусы-отношения. Центр – "невидимый алтарь", вокруг которого возникает и существует мир. "Этот мир – дом и обитель человека в космосе".
Таким образом на основе концепции диалогического бытия, охватывающего весь мир, М.Бубер предлагает решение проблем смысла жизни, одиночества и неустроенности человека в универсуме.
Обычно, когда происходит обмен высказываниями, мы называем это диалогом. Но, как показывает Бубер, диалог диалогу рознь. Самое горячее словесное общение еще не значит, что совершается настоящий разговор; особенно мало похож на него "странный вид спорта", называемый дискуссией, когда нам в общем-то нет дела до другой личности, а главное для нас – взять верх, подавив другого своими аргументами.
Настоящий диалог может происходить молча, – имеется в виду не совместное мистическое молчание, а искренняя открытость, расположенность к другому человеку. "Ибо там, где между людьми установилась открытость, пусть даже не в словах, прозвучало священное слово диалога", – утверждает Бубер.
Он различает три вида диалога: "подлинный", "технический" и "монолог, замаскированный под диалог". Нередко то, что по видимости кажется диалогом, не обладает сущностью диалога. Настоящий диалог, в котором каждый из участников действительно имеет в виду личность другого и обращается к нему как к личности, – редок. "Технический" же диалог преследует цель обеспечить согласование действий индивидов, достичь "объективного взаимопонимания". Третий вид – "замаскированный монолог" – это нечто вроде дискуссии, когда говорящими руководит "желание утвердиться в своем тщеславии, прочтя на лице собеседника произведенное впечатление, или укрепить пошатнувшуюся уверенность в себе; это – дружеский разговор, в котором каждый считает себя абсолютной и законной величиной, а другого – относительной и сомнительной; беседа влюбленных, в которой каждая из сторон наслаждается величием своей души и ее драгоценным переживанием...".
Условием настоящего диалога является осознание инакости Другого. Такое осознание не является привилегией каких-либо особо одаренных или высокоразвитых персон. Чувство драгоценной инакости доступно и ребенку; послушаем, как рассказывает Бубер об одном своем незабываемом детском впечатлении. Он вспоминает, как в одиннадцатилетнем возрасте, гостя в имении дедушки и бабушки, прокрадывался незаметно в конюшню, чтобы погладить своего любимца-коня: "Это было для меня не поверхностным удовольствием, а большим, приятным и глубоко волнующим событием....Лаская это животное, я испытывал Иное, огромную инакость Другого, которая, однако, не оставалась чужой... Мне казалось, что с моей кожей граничит элемент самой жизненности, нечто, что было не я, совсем не я, совсем не привычное я, а ощутимо Другое, не просто нечто другое, а действительно само Другое; и оно все-таки допускало меня к себе, доверялось мне, просто общалось со мной, как Ты и Ты".
Настоящий диалог может быть похож на любовь, но это не одно и то же. Бывает не только "крылатый" (диалогический), но и "бескрылый", монологический Эрос. Бескрылый эротик влюблен только в свою страсть, наслаждается приключением, чувствует себя "идолом", экспериментирует со своими "предметами" – он не знает настоящего Другого. Настоящий диалог охватывает сферу более широкую, чем любовь. Он есть там, где есть "Мы", где есть бытие "Между":
"Настоящий диалог (т.е. не обусловленный заранее во всех своих частях, но вполне спонтанный, где каждый обращается непосредственно к своему партнеру и вызывает его на непредсказуемый ответ), настоящий урок (а не автоматически повторяемый и не тот, результаты которого наперед известны преподавателю, по сулящий обоюдные сюрпризы), настоящее, а не обратившееся в привычку объятие, настоящий, а не игрушечный поединок – вот примеры истинного "между", суть которого реализуется не в том или в другом участнике и не в том реальном мире, в котором пребывают наряду с вещами, но в самом буквальном смысле – между ними обоими, как в некоем доступном им измерении".
Диалоговедение М.М. Бахтина.
Откуда я могу знать, какой я: хороший, плохой, добрый, злой, умный, глупый, красивый, некрасивый? И зачем мне это знать? – Живу, и ладно. Если бы я был один-единственный на свете, все эти оценки (красивый – некрасивый и т.д.) не имели бы для меня никакого значения. Сам по себе (и для себя) я был бы "никакой". А "никакой" – значит: бескачественный, неопределенный, неотличимый как нечто существующее, т.е. просто как бы несуществующий... Значит, выходит, "самого по себе" меня просто не может быть?!Действительно, мое бытие становится определенным благодаря существованию других. Это с их точки зрения я выгляжу добрым или злым, умным или глупым, красивым или некрасивым. Благодаря оценкам других, благодаря отношению других ко мне я получаю некоторую определенность, становлюсь чем-то.
И эти оценки меня другими небезразличны мне. Я соглашаюсь с ними или отвергаю их. От них зависит моя жизнь. Оценки выражают отношение людей ко мне, препятствуют или способствуют моему существованию, осуществлению моих целей. Оценка другим человеком как бы вставляет меня в какую-то рамку, очерчивает границы моих возможностей, "заканчивает" меня, однако я жив, еще не закончен и постоянно пытаюсь сломать ограничивающие меня рамки. Таким образом, находясь среди других людей, общаясь с ними диалогически, вступая с ними в определенные отношения (даже избегание контактов, чуждание людей – тоже определенная форма отношения), я становлюсь самим собой, чем-то определенным, "имеющим место" в бытии.
Потому российский философ и филолог Михаил Михайлович Бахтин (1895-1975) утверждает: "Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. <...> Два голоса – минимум жизни, минимум бытия". Феномену диалога Бахтин придает универсальное значение. Диалогические отношения людей – не просто "одно из" проявлений их бытия, а явление, пронизывающее всю человеческую речь (и сознание), все отношения и проявления человеческой жизни, всё, что имеет смысл и значение.
Свою диалогическую концепцию бытия Бахтин развивает, опираясь па литературные произведения Ф.М. Достоевского. Этот писатель создал, по определению Бахтина, принципиально новую – полифоническую – форму романа. Достоевский представляет читателю своих героев совершенно особым способом: писатель не манипулирует ими как объектами, не судит своих героев, пользуясь своей привилегией автора (как бы "бога", возвышающегося над сотворенным им миром), а дает героям самим высказать себя, свою правду о мире, свое видение других людей и себя самих среди людей. Слово героя тут не служит рупором авторского голоса. Сознанию каждого героя противостоят равноправные сознания других героев; ни у кого нет привилегии на единственную правду, каждый человек – носитель собственной правды. Читатель не столько "видит" героев (Достоевский обычно не дает однозначного и завершенного образа героя), сколько слышит их "голоса", как бы подслушивает диалоги между ними и их внутреннюю речь ("микродиалоги"). Таким образом Достоевский создает полифонию (многоголосие), и его задача – не судить героев с "единственно правильной", авторской, точки зрения, а сводить героев друг с другом в "большом диалоге" в мире произведения.
Понимание человеческой личности, как показывает Бахтин, возможно только благодаря диалогу. Человек изнутри самого себя не может ни понимать себя, ни даже стать собой. Мой дух изнутри себя не "видит" своих границ, не имеет образа себя. Только других я вижу как объекты – в целом и среди других объектов, т.е. вижу их границы, имею их образы. Сам для себя я не могу быть объектом. Я не вхожу в свой собственный кругозор. Даже когда смотрю на себя в зеркало, поражаюсь призрачности, нереальности видимого, чувствую раздвоение, несовпадение меня, видимого в зеркале, и меня, переживаемого изнутри. Только другие люди видят меня в целости. Чтобы охватить личность в целом, нужна позиция вненаходимости. Я вижу мир, вижу других в мире, но не себя в мире; другой видит меня в мире и обладает, таким образом, избытком видения по сравнению со мной. При встрече с другими мой дух (и дух другого) выявляет свои границы и тем самым оплотняется в душу. Изнутри меня самого души как целого нет. Я вхожу в мир как главное действующее лицо, я вызываю у других удивление, восхищение, испуг, любовь, вижу у других выражение этих отношений ко мне, но себя не вижу. Мы ловим отражения нашей жизни в сознании других людей. Можно сказать, что другие дарят мне меня как нечто цельное и определенное.
Второй критикуемый Бахтиным метод познания личности заключается как раз в однобокой объективации, "овеществлении" человека, односторонне – объективном" его познании. Такой подход характерен для механистической психологии. Изъяны "объектного" безучастного анализа человека Бахтин усматривает в двух аспектах. Во-первых, этот метод проходит мимо самого существенного в человеке – его свободы, незавершенности, несовпадения с самим собой. В любой момент своего существования человек имеет в себе помимо того, что мы в нем "объективно" видим, еще и возможности (то, что еще объективно не существует: нечто желаемое, предполагаемое, воображаемое); он как бы живет своим будущим (мгновением, часом, веком), скрытым от нашего взгляда и суда. Поэтому человек никогда не совпадает с самим собой, с тем, что он "уже" есть; он способен опровергнуть данную ему другими или самим собой характеристику. "Пока человек жив, он живет тем, что еще не завершен и еще не сказал своего последнего слова". Потому – то "подлинная жизнь личности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собою, в точке выхода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть, определить и предсказать помимо его воли, "заочно".
Во-вторых, приверженцы механистической психологии стараются рассматривать человека не взглядом другой живой конкретной личности, а с позиции безучастного, бесстрастного "сознания вообще". Такие попытки и ложны, и малопродуктивны. Ложность состоит в том, что безучастное "сознание вообще" невозможно. Любой исследователь (в том числе и сторонник механистической психологии) – "живой человек", подверженный своим пристрастиям и антипатиям, накрепко связанный со своим фактическим, единственным и неповторимым индивидуальным бытием. Претендовать на безучастное видение мира и другого человека можно лить в абстракции, т.е. в отвлечении от того, что каждый из нас может видеть мир лишь своими собственными, человеческими, участными в мире глазами.
«Мы» - начало космическое. С.Л. Франк.
Видный русский философ Семен Людвигович Франк (1877-1950) в своем осмыслении феномена коммуникации во многом близок к мыслителям, о взглядах которых шла речь выше. Вместе с тем в его работах мы найдем немало своеобразных идей, а особенная его заслуга, пожалуй, в том внимании, которое он уделил аспекту "Мы", т.е. особенностям единства "я-ты".Чтобы настроиться на восприятие соображений С.Л. Франка, давайте сначала прочувствуем разницу между двумя своими состояниями. Первое: мы смотрим на безучастный к нам предмет; второе: мы смотрим на существо, глядящее на нас. Разница очевидна: взгляд другого вторгается в нас, приводит в напряжение, смущение, возбуждение (то-то не просто играть в "гляделки"!).
Из такого сравнения мы ясно видим различие между "оно" (вещью или человеком, на которого смотрят как на вещь) и "ты". Вещь мы можем разглядывать, анализировать, а "ты" доступно нашему восприятию совсем иначе – "ты" само вторгается в нас, и никаким иным образом, кроме его самопроизвольного действия на нас, "ты" не доступно восприятию. По своему существу, "ты" – это реальность, имеющая отношение ко мне, устремленная на меня. Франк пишет, что "ты" "дает нам знать о себе", затрагивая нас, "проникая" в нас, вступая в общение с нами, некоторым образом "высказывая" себя нам и пробуждая в нас живой отклик". "Всякое познание или "восприятие" "ты" есть живая встреча с ним, скрещение двух взоров: вторжение "ты" в нас есть вместе с тем наше вторжение в него..."
Во встрече "я" и "ты" происходит самораскрытие друг для друга двух закрытых в себе и только в себе сущих носителей бытия. При этом "мое" самобытие как бы встречает и узнает свое собственное существо за пределами себя самого. Говоря об этом узнавании себя в другом, Франк делает любопытное замечание: палачи и профессиональные убийцы избегают смотреть в глаза жертве и вообще другому существу, опасаясь потерять "предметное", "вещное" отношение к другому, – ведь во встречном взгляде можно "узнать" самого себя. В глазах убийцы жертва должна оставаться вещью. "...Любая, даже беглая встреча с живым человеческим взором, – пишет Франк, – будучи таинственным откровением "ты" – мне подобного существа, "второго я" – сразу же и в корне уничтожает эту чисто предметную установку..."
Встреча "я" и "ты" – это и есть феномен "мы". Вместе с тем, однако, по мнению Франка, отдельные "я" не существуют раньше, чем "мы", и неверно утверждать, будто "мы" появляется в результате объединения нескольких еще до "мы" существовавших "я". "Мы" – первичная реальность по отношению ко всякому отдельному "я". "Я" укоренено в бытии "мы", т.е. без "мы" (до "мы") не было бы никакого "я". Дело в том, что "я" всегда соотносительно с "ты" – точно так же, как не может быть "верха" без "низа", "левого" без "правого", южного полюса без северного. Это значит, что сперва должно быть что-то целое, чтобы в нем можно было выделить одну и другую противоположные стороны. В человеческих отношениях "мы" как раз и есть такая изначальная целостность, в рамках которой могут конституироваться "я" и "ты".
С.Л.Франк различает две основные формы во взаимоотношении "я – ты". Во-первых, когда "ты" является чуждым и угрожающим; во-вторых, когда "ты" является сродным, близким.
Обычно какое-либо "ты" в первую очередь является нам как чуждое, жуткое, отталкивающее. Это объясняется тем, что "ты" не есть "я сам", но при этом претендует быть тем же, что и "я сам", выступает жутким двойником, теснит меня и требует от меня себе места в качестве "я".
В этой первоначальной чуждости особенно явно можно видеть отличие "ты" от "оно": предметное бытие (фихтевское "не-я") не вторгается активно в мое самобытие. Перед "ты" "я" испытываю особый страх, внутреннюю необеспеченность, мое "я" как бы отступает внутрь себя и как раз потому впервые осознает себя как внутреннее самобытие. Наиболее показательным примером такого отношения служит застенчивость. Взгляд чужих глаз приводит меня в состояние несвободы, связанности, скованности.
Нечто подобное, замечает Франк, должно происходить с каким-нибудь мирным, неорганизованным первобытным племенем, когда оно наталкивается на внешнего врага: племя при этом внутренне смыкается, группируется, начинает осознавать себя ограниченным вовне и внутренне солидарным единством, теряет свою первоначальную безграничность и неопределенность. Подобным же образом" "я" возникает и существует лишь перед лицом "ты" как чужого, жутко-таинственного, страшного и смущающего своей непостижимостью явления мне-подобного-не-я".
"Ты" в качестве чужого, неравноценного "я" сходно с "оно", с предметным бытием: другой, будучи моим соперником или врагом, может стать моей добычей, рабом, орудием. Чуждое "ты", стоит, таким образом, на границе с "оно", хотя все-таки не может целиком, без остатка погрузиться в "оно". Значит, "ты", являющееся чуждым, не раскрывает себя вполне.
Во второй форме отношения "я – ты" другое существо выступает в качестве сходного, сродного, родного мне – как реальность вне меня, внутренне тождественная мне. Здесь отношение "я – ты" проявляется в его полной актуальности. Тайна другого не перестает быть тайной, но теперь она не угрожающая, а отрадная и сладостная тайна.
Эта вторая форма есть чуткое, проникающее, понимающее и раскрывающее отношение "я – ты". Благодаря такому отношению "я" как таковое впервые внутренне оформляется, приобретает прочную реальность, как бы усматривает единственность, законность, понятность своего существа"" и происходит это "лишь когда оно видит себя в свете сродного, близкого, тождественного ему по своему существу "ты", – другими словами, лишь когда оно находит как бы подтверждение своего бытия вне себя самого; как извне данную, извне ему открывающуюся и в этом смысле "объективную "реальность".
Указанные два типа или формы – это не столько два разных самостоятельных отношения, сколько два внутренне связанных момента, присущих всякому конкретному отношению "я – ты". Их сопряженность между собой всем хорошо знакома в явлении единства любви и ненависти.
О любви Франк говорит не как о чувстве, но как об онтологическом отношении. Любовь – это встреча с "ты" как подлинной, я-подобной, самой по себе и для себя сущей реальностью. Любовь раскрывает нам глаза на другого. Любовь – познание изнутри и признание другого в его инакости. Благодаря любящему признанию мы получаем в другом "онтологическую опорную точку" для себя.
Любовь.
"До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что "тайна сия велика есть", – иронично заметил А.П.Чехов.А что, собственно, мы хотели бы знать о ней? Если мы ждем, чтобы нам описали, какая она бывает, – это одно дело, с которым лучше обратиться к поэзии. Именно поэзия говорит о любви самым подобающим языком – "нелогичным", образным, неформализованным. Но даже поэзия не всесильна: никогда даже самое верное, гениальное слово не может в совершенстве выразить переживания любви.
Если же мы хотим объяснения, что такое любовь, – это другой вопрос, с которым скорее всего следовало бы обратиться к науке или философии. Наука может многое – изучить условия, при которых любовь приходит или проходит, обобщить факты и выявить закономерности, но и ее возможности ограничены: сама любовь как человеческое отношение и переживание не может быть "сфотографирована" и измерена никакими научными средствами.
А что может философия? Полного объяснения любви она в конечном счете тоже не дает, но только проясняет значение этого феномена. Мы рассмотрим идеи, в которых отобразились типичные философские представления той или иной эпохи, и особое внимание уделим взглядам видных мыслителей двух последних столетий.
Тема любви в античной философии.
Античных философов мало интересовал вопрос, что такое любовь. В ней не видели тайны. Она просто есть, как есть космос, боги, люди, животные, растения и многообразные вещи, наполняющие космос. Любовь для древних греков не более загадочна, чем все остальное, разве что притягательнее многих иных вещей. Свои представления о любви литераторы и философы античности выражали обычно посредством мифологических образов.Те многообразные значения, которые в русском языке охватываются одним словом "любовь", язык древних греков выражает разными словами: "эрос", "филия", "сторге", "агапэ". В этом есть определенное преимущество; может быть, у древних греков было меньше поводов для недоразумений, чем сегодня у нас, когда кто-то говорит о любви и его с "пониманием" выслушивают, а в конце концов выясняется, что один из собеседников думал при этом о любви к ближнему, а другой об эротике.
Эрос у древних греков – главным образом половая, страстная любовь, способная дойти до безумия.
Филия – приязнь к самым разнообразным "вещам". Это и любовь к родителям, к детям, и любовь к родине, и любовь к товарищам (дружба), и эротическая любовь (эрос – лишь один из видов филии), и любовь к познанию, и прочее. По сравнению с эросом филия – более "мягкое" влечение.
Агапэ – еще более "мягкая" любовь, жертвенная и снисходящая к "ближнему". Именно такое понимание любви восхваляло христианство в период заката языческой культуры; у ранних христиан были в обычае "агапы" – братские трапезы.
Сторге – любовь-привязанность, особенно семейная.
Многие древнегреческие философы опирались на понятие любви для объяснения порядка и строения космоса, а также возникновения космоса. Это человеческое чувство и влечение переносилось греками на весь мир, принимало вид безличной силы, существующей самостоятельно.
В древнегреческой мысли почти нет попыток понять, что же такое любовь. Исключение составляет миф об андрогинах, рассказанный одним из персонажей диалога Платона "Пир". Миф об андрогинах объясняет любовь как жажду целостности и стремление к ней. Впоследствии этот миф получил новое истолкование у В.С.Соловьева и Н.Л.Бердяева.
Христианское понимание любви.
Христианство принесло в мир новое понимание любви, чуть ли не во всем противоположное античному пониманию. Главным средоточием любви христианство признает Бога. Ни античный, ни иудейский мир не ведали такого рода любви. Античных богов почитали, поклонялись им, приносили жертвы, но не любили кого-то из них как Единого, совершеннейшего Бога, как личность. Иудейская же религия признавала нормой отношения человека к Богу страх.Новый завет объявил любовь главным законом во взаимоотношениях человека и Бога. Любовь, в отличие от поклонения и страха, – отношение взаимное. По христианским представлениям, Бог любит людей, и свою любовь Он вполне проявил, послав в мир Своего Сына. "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него", – сказано в Евангелии от Иоанна (Ин 3, 16-17). "... Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас..." (Рим 5, 8). О новом отношении христианина к Богу свидетельствуют и такие слова Иисуса, обращенные к людям: "Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам". "Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего" (Ин 15, 14-15).
Другая важнейшая особенность христианского понимания любви состоит в требовании любить "ближнего". А понятие ближнего, относившееся в Ветхом завете только к "сынам Израиля", Иисус распространяет на всех людей независимо от их принадлежности к тому или иному народу. На прощальной беседе с учениками ("тайной вечере") Иисус не раз упоминает, как бы давая завещание перед разлукой, о долге братской любви: "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою" (Ин 13, 34-35).
Согласно Новому завету любовь к ближнему является необходимым условием любви к Богу, ступенью к Нему. "...Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?" (1 Ин 4, 20). Любовь к ближним включает в себя прежде всего любовь к родственникам, детям, женам. Апостол Павел призывает: "Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее..." (Еф 5, 25). Однако любовь к ближним, даже к родным, не должна заслонять главного – любви к Богу. Иисус говорит своим ученикам: "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня" (Мф 10, 34-38).
Любовь должна занимать в душе христианина место более высокое, чем даже вера. Об этом писал коринфянам апостол Павел: "Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том никакой пользы" (1 Кор 13, 1-3).
Утверждая любовь как высшую христианскую добродетель, апостол Иоанн взывал к людям: "Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога... Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь" (1 Ин 4, 7-8).
Христианский идеал любви оказал огромное влияние на мировоззрение европейцев, хотя в течение двух тысячелетий не превратился в повседневную норму для всех, а так и остался идеалом. Этот идеал в дальнейшем стал основой для появления нового типа любви – любви личности к личности, которую в современном мире называют "настоящей любовью".
Тема любви в философии эпохи Возрождения и Нового Времени.
Эпоха Возрождения восстановила в правах античные представления о любви. "Земная" любовь заняла значительное место в произведениях ренессансного искусства. Философия вновь проявила интерес к платоновской теории эроса (М. Фичино). Любви снова, как и в античной философии, стали отводить роль космической силы (Дж. Бруно).Суждения философов эпохи Возрождения о любви теснейшим образом связаны с формированием новых представлений о человеке, его природе, его месте и значении в мире. На смену средневековому противопоставлению божественного и природного начал в человеке приходит идея об их гармоническом единстве. Появляется понимание, что если тело и душа человека составляют неразрывное единство, то человеческое предназначение заключается не в борьбе с собственной природой, а, наоборот, в следовании природе.
Набирают силу идеи эпикурейской философии. Презрению к миру, аскетизму, умерщвлению плоти ренессансный гуманизм противопоставляет культ наслаждения и пользы, радостей земного существования, красоты человеческого тела.
Возрождению античных представлений об эросе и о любви как космической силе значительно способствовали труды Марсилио Фичино (1433-1499), сделавшего перевод на латинский язык сочинений Платона и неоплатоников. В его учении, синтезирующем идеи христианства и неоплатонизма, о любви говорится как о "круговой" связи всех частей мира.
Любовь – "духовный круговорот", начинающийся от Бога, исходящий мир и вновь возвращающийся к Богу.
Николай Кузанский (1401-1464), мыслитель раннего Возрождения, представлял понятие любви в двух аспектах: во-первых, как всеобщую связь в универсуме, во-вторых, как отношение Бога к человеку и человека к Богу. Бог, в трактовке Кузанца, это – абсолют, абсолютный максимум. А раз так, ничего не может находиться за Его пределами и быть противоположным Ему. Поскольку Он – единственный максимум, значит, Он одновременно и минимум; ведь нет никакой внешней по отношению к Богу меры, чтобы ею измерить и отличить бесконечно большое от бесконечно малого. В Нем все совпадает – все противоположности. Тем самым Он един со всем, пребывает во всем. Вера всех народов, считает Николай, видит Бога этим непостижимым максимумом.
В Абсолюте все едино, всё связано. Эту всеобщую связь всего со всем Николай часто обозначает словом "любовь" и уподобляет ее Святому Духу (одной из ипостасей Троицы). Все существующее двигается и воздействует прямо или опосредованно на все другое, создавая единство Вселенной. Все участвует во всем. Любовь – это высшая связь, а Святой Дух – совершенная любовь. "Ничто не лишено этой любви, без которой не было бы ничего устойчивого; все пронизано невидимым духом связи, все части мира внутренне хранимы ее духом, и каждая соединяется им с миром".
Все, что человек любит, включено во вселенское единство и порядок (в том числе и "я сам" включен в это единство и потому достоин любви). Когда человек сумеет это понять, ничто уже не покажется ему тяжелым и враждебным: всякую ношу он примет как должную в единстве бытия и любви, находя в этом возвышенное и счастливое приобщение к божественности.
Говоря о любви Бога к человеку и человека к Богу, Николай отмечает, что божественная любовь превосходит человеческую. Любовь Бога опережает человеческую – так же, как отеческая любовь опережает сыновнюю. Бог настолько великодушен, что дает свободу людям не любить Его (а любить кого-то или что-то вместо Него), тогда как Он всегда любовно связан со всем и каждым.
Кузанец пишет, что божий взор никогда не оставляет его, а "где глаз, там и любовь". Любовь Бога – это любящий взгляд, который "всегда со мной". Бог – око. И "я существую постольку, поскольку Ты на меня смотришь"; мое существование прекратится, если Ты отвернешься от меня; но Ты не оставишь меня, пока я сам могу Тебя принимать. Взгляд Бога – животворящий подарок "сладостной любви"" и "я бесконечно люблю свою жизнь, потому что Ты сладость моей жизни".
Такое представление о совпадении Бога с миром называют "пантеизмом" (от греч. pan – "все" и teos – "бог"). Пантеизм негативно воспринимается ортодоксальным христианством, поскольку подрывает краеугольный камень вероучения – идею креационизма (т.е. учения о том, что мир сотворен Богом из ничего), ведь творение, по логике, не должно совпадать с Творцом.
Фрэнсис Бэкон (1561-1626) – английский мыслитель позднего Возрождения, сформулировавший важнейшие принципы философии Нового времени, – с одной стороны, почтительно отзывался о принципах христианской любви, с другой стороны, уделил внимание и "земной" любви, подвергнув ее разбору с точки зрения здравого смысла.
Рассуждая о "земной" любви, Бэкон держится осмотрительно – не хвалит и не порицает ее огульно. Он выделил два ряда аргументов – "за" любовь и "против".
"За" любовь следующее: благодаря ей человек находит самого себя; великая страсть – наилучшее состояние души; без любви человеку все кажется простым и скучным; любовь спасает от одиночества.
"Против" любви: любовь хороша на сцене – в виде комедии или трагедии, но в жизни она приносит много несчастий. Любовь вызывает у людей противоречия в мыслях и оценках. Она делает людей одержимыми одной мыслью, навязывает им слишком узкий взгляд на вещи.
Среди великих людей, считает Бэкон, почти нет никого, кто позволял бы этой страсти в себе вырасти до безумия, – это удел слабых людей. Бэкон приводит поговорку: "Невозможно любить и быть мудрым". По мнению философа, разумно поступает тот, кто удерживает любовь в "подобающем ей месте", раз уж нельзя без нее обойтись совсем, и полностью отделяет ее от серьезных дел и поступков.
Таким образом, мы видим, что Бэкон в общем не против "земной" любви, но против ее чрезмерностей. По его мнению, человеческой природе присуща "тайная склонность" любить других, и если не растрачивать всю любовь на одного или немногих, то она распространяется на многих людей, она делает нас гуманными и милосердными. "Супружеская любовь создает человеческий род, дружеская любовь совершенствует его", и только "распутная любовь его развращает и унижает".
Рене Декарт (1596-1650) – французский философ и математик, один из основоположников философии Нового времени – попытался подвергнуть любовь (наряду с другими "страстями") научно-теоретическому анализу. Такой подход к феномену любви принципиально нов по сравнению с теми, что нам встречались раньше.
Научность декартова подхода выразилась, во-первых, в использовании рационалистического метода рассуждений, во-вторых, в опоре на эмпирические данные естествознания.
Прежде всего, следуя правилам своего метода, Декарт выделил среди большого множества человеческих страстей "простые и первичные". Их оказалось шесть: удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль. Все прочие страсти он расценил как виды или сочетания первых.
Поскольку любовь Декарт посчитал простой и первичной страстью, он отклонил соображения, будто любовь бывает разного рода – как любовь-вожделение и любовь-доброжелательность. Потому-то нет нужды различать столько родов любви, сколько существует разных предметов, которые можно любить.
Опираясь на понятие "животных духов", Декарт пытается отличить страсти, возникающие в теле (автоматическом механизме), как от суждений, возникающих в душе (сознании), так и от волнений, вызванных суждениями. Таким образом, Декарт устанавливает различие между любовью как непосредственной первичной страстью, не зависящей от сознания, возникающей "автоматически", и побуждениями, опосредованными активностью души (сознания). Первичная страсть любви – это "согласие" тела с предметом, возникающее тотчас при его появлении (когда себя воспринимают как одно целое с предметом), а вторичные побуждения представляют собой намерения, желания, направленные в будущее. И все же Декарту не удается четко отделить первичные страсти от осознанных намерений (насколько непроста эта задача, показали в XX веке исследования феноменологов и позитивистов).
Вместо имевшихся ранее классификаций Декарт по-своему предложил различать три вида любви: привязанность, дружба, благоговение. Они отличаются друг от друга не по предмету, на который направлены, а по степени ценности, которую им придает любящий в сравнении с самим собой: если предмет ценят меньше себя, то это – привязанность; если наравне с собой, – дружба; если больше себя, – благоговение.
Самое главное желание человека вызывается, по мнению Декарта, воображаемым совершенством представителя другого пола. В определенном возрасте люди чувствуют себя "ущербными" – только половинками единого целого, и тогда обладание другой половиной кажется им величайшим из благ. Причем человек желает обладать не многими другими, а одной–единственной половиной – по природе этого достаточно. Именно такую склонность к одному человеку обычно люди зовут любовью, замечает Декарт, а не ту первичную страсть, которую он описал как действие "животных духов". Именно она служит вдохновительницей романистов и поэтов.
Итак, мы видим у Декарта попытку естественно–научного объяснения любви. Не только Декарту, но и более поздним исследователям не удалось в полной мере объяснить любовь "научно". Она оказывается несводимой целиком к действию "животных духов" и вынуждает ученых и философов вновь и вновь искать какие-то еще неизученные и неучтенные факторы, недостающие для "все объясняющей" теории. Да, их попытки не увенчались полным успехом, однако не следует сбрасывать со счета их открытия, обогатившие наши представления о человеческой душе, в том числе и о ее способности любить.
Учение Г.С. Сковороды о невидимой натуре.
Мы обратим внимание на восточную окраину Европы, где, укрытые провинциальной тенью, произрастали порой самобытные идеи и концепции. Речь пойдет о взглядах украинского мыслителя Григория Саввича Сковороды (1722-1794), выпускника Киево-Могилянской академии, литератора, странствующего проповедника, поклонника античной философии и библейской мудрости.Своеобразие его взглядов на любовь проявилось уже в самом раннем философском сочинении – конспективном изложении курса лекций по "добронравию" (христианской этике), которые Сковорода читал в Харьковском коллегиуме. Он осмелился здесь дать свое собственное истолкование "десятословия" Моисея и вывел из него "мораль", что вся "сила" десяти заповедей заключается в одном слове "любовь". Эта любовь – вечный союз между Богом и человеком. Помимо своей сути, она имеет и внешнее выражение – церемонии, обряды, т.е. "образ благочестия". А под этой "шелухой" и "маской" легко может скрываться "лицемерная обманчивость", ведь церемонию может исправлять и "самый несчастный бездельник". После этих лекций Г. Сковорода был отстранен от преподавания (1769) и в дальнейшем излагал свои взгляды только в трактатах и устных беседах.
Своим учением Сковорода стремился показать людям путь к истинному счастью. Многие ошибочно, по его мнению, связывают счастье с богатством, должностями, почестями, внешней красивостью. Настоящее счастье находится не снаружи, а в нас самих: счастье – в сердце, сердце – в любви, а любовь – в вечности.
Счастье зависит от "невидимой натуры". Что имеется в виду? Сначала уясним учение Сковороды о "двух натурах" – видимой и невидимой. Всякая вещь, видимая глазом, как считал Сковорода, является как бы тенью "невидимой натуры", т.е. тенью сущности духовной. Разумность человека состоит в способности сквозь видимое ("тень", "прах", "грязь") узревать невидимое, например, в способности сквозь черноту букв видеть смысл написанного или сквозь пестроту красок узревать "рисунок" (образ), начертанный художником. Невидимую натуру Сковорода именует словом "Бог" а видимую – "тварь". "Бог – древо жизни, а другое все – тень Его. Люди, не зная о существовании невидимой натуры, увлекаются и соблазняются обманчивой видимостью. Человек, не познавший невидимую натуру, любит всего лишь преходящее, "потому-то он и плачет, когда оно его оставляет, рассуждая, что уже оно совсем пропало". Влечение к видимой натуре постоянно обманывает наши надежды, оно ненасытно, потому как не дает совершенного утешения: "Любовь к тени есть мать голода", а голод – отец смерти.
Настоящее счастье находит тот, кто зрит невидимую натуру и подчиняется ее призванию. Но как можно "влюбиться в неведомое"? Эта "любовь есть Софиина дочь", т.е. она открывается взору мудрости, а не телесному зрению. Мудрость древних учит: "Познай самого себя", – это любимый афоризм Сковороды. Самопознание должно открыть человеку невидимую натуру в нем самом.
Познание себя открывает путь к пониманию Бога. Бог, конечно, не в самом человеке, но кто не ведает в себе духа человеческого, тот слеп и глух к Богу, тот не ведает "истинного человека", "ведь истинный человек и Бог есть то же". Необходимо уразуметь и полюбить в себе душу, иначе наша жизнь не будет подлинно человеческой: "...Кто себя не узнал, тот тем самым потерялся..." Сковорода приводит такое сравнение: если у человека в доме лежит сокровище, но он сам об этом не знает, то и не имеет его.
Самопознание, открывая человеку его истинную природу, дает вместе с тем ключ к истинной любви и дружбе, а они зависят от сродности натур. Всякому существу, по предопределению божьему, назначена "сродность" с одними вещами и "несродность" с другими. Это наглядно проявляется в питании: что одним – во благо, другим – во вред. Горе человеку (и любой твари), когда он связывает себя с "несродным" существом или "несродным" делом. Тогда все не в радость – ни почетная должность, ни богатство, ни увеселения. "Несродность" вводит в душу беса уныния, озлобляет, толкает человека на "безобразные дела" и "саморучные себя убийства".
Настоящее же "увеселение сердечное обитает в делании сродном. Тем оно слаще, чем сроднее". Ради сродного дела человек готов претерпеть многие тяготы "и, находясь при одном ржаном хлебе и воде, царским чертогам не завидует". У каждого человека – своя врожденная "сродность": к хлебопашеству ли, к воинству, к богословию, – главное верно понять себя, свою данную Богом натуру, и не сетовать на данное. Многообразие человеческих натур обеспечивает общественную гармонию. Сковорода сравнивает общество с машиной, у которой имеются не одинаковые, а разнообразные части, сопряженные друг с другом и все необходимые.
Той же "сродностью" натур обусловлены любовь и дружба в отношениях между людьми. "Дружбы нельзя выпросить, ни купить, ни силою вырвать. Любим тех, кого любить родились так, как едим то, что по природе, а у Бога для всякого дыхания всякая пища добра, но не всем".
Те, кто связаны дружбой, не во всем совпадают по натуре, но их может объединять любовь к общему делу. Сковорода иллюстрирует эту мысль басней: Соловей и Жаворонок хотели подружиться, но одному суждено жить в саду, а другому – в степи; выход нашел Дрозд, заметив, что они все трое любят петь, – и песня скрепила их дружбу. У людей подобной "песней", связующей всех, несмотря на многообразие характеров, может быть любовь к Богу.
Как видим, по мысли Г. Сковороды, самопознание и "сродность" являются предпосылками истинного счастья, они обусловливают дружбу, гармонию в обществе, любовь к людям, к своему делу, к себе и к Богу, они даруют "истинному человеку" бессмертие.
Тема любви в немецкой классической философии.
Иммануил Кант – основоположник немецкой классической философии – считал, что любовь и уважение являются главными обязанностями людей по отношению друг к другу. Вместе с тем Кант утверждал, что человек "по природе зол". Как согласуются между собой эти два суждения?Человек двойствен. Он принадлежит, по мнению Канта, одновременно двум мирам: миру природы и миру разума. Как природное существо (т.е. как живой организм) человек не свободен от неумолимых законов природы, но как носитель разума человек обладает свободой выбора поступков.
Если бы мы подчинялись только своим природным влечениям, т.е. стремились к чувственным удовольствиям, жизнь была бы хаотическим разгулом страстей – каждое существо беспокоилось бы только о своем удовольствии. Действия таких существ не добры и не злы – они вне морали. Но поскольку мы обладаем разумом и свободой выбора поступков (а разумный выбор подчас идет вразрез с чувствами приятного или неприятного), мы морально ответственны за свое поведение.
Хотя "по природе" человек "зол", его собственный разум говорит ему о необходимости следовать сверхприродным требованиям долга, в том числе обязанностям любви и уважения.
Возникает вопрос: разве можно любить кого-нибудь "по долгу", а не по "естественному чувству"? Говоря о любви как о долге, Кант подразумевает в данном случае не чувство, а общий принцип, полагаемый разумом. "Любовь, – писал он, – мы понимаем здесь не как чувство <...>, т.е. не как удовольствие от совершенства других людей, и не как любовь – симпатию <...>; любовь должна мыслиться как максима благоволения (практическая), имеющая своим следствием благодеяние". Делать добро людям мы способны независимо от того, любим мы их или нет; разум велит делать добро даже в том случае, если бы жизнь привела нас к "открытию", что род человеческий не достоин любви.
Не следует видеть в Канте сухого рационалиста, отрицающего в любви чувственное начало. Он вполне осознает, что человек убого делает то, что не любит сердцем; человек всегда готов каким-нибудь образом увернуться от исполнения "долга", продиктованного одним лишь разумом. Кант полагает, что любовь коренится не только в разуме (это лишь один ее источник), но и в чувстве.
Долг любви не является для человека результатом чисто логических "вычислений". В нем таится также и сила аффекта, неосознаваемых "темных представлений". В основании любви есть животное чувство, преобразованное в высший элемент культуры. То половое влечение, которое одинаково присуще человеку и животным, у человека способно быть более длительным и интенсивным благодаря воображению. Животное, движимое только половым инстинктом, довольно скоро достигает пресыщения. Человеческое воображение способно поддерживать эмоцию, – умерять и одновременно увеличивать ее продолжительность: чем больше предмет чувства удален, тем больше работы для воображения и тем продолжительнее эмоция. Отказ от чисто животного удовлетворения, ведущего к пресыщению, и "был, – по мнению Канта, – тем волшебным средством, превратившим чисто чувственное влечение в идеальное, животную потребность – в любовь, ощущение, просто приятное, – в понимание красоты сначала в человеке, а затем и в природе".
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) в ранних работах писал о любви в связи со своим интересом к проблемам религии. В работе "Дух христианства и его судьба" Гегель спорит с Кантом, который считал евангельскую заповедь "люби ближнего, как самого себя" идеалом, к которому нужно стремиться, но который не может быть вполне осуществлен человеком, ведь он, как всякое живое существо, подвержен желаниям и склонностям, не согласующимся с моральным законом. Гегель же полагал, что Христос в Нагорной проповеди показал решение проблемы соединения "склонности с законом, благодаря чему последний теряет свою форму закона... Совпадение склонности с законом заключается в том, что закон и склонность перестают отличаться друг от друга... Это совпадение есть жизнь, а в качестве отношения различных – любовь..."
По мнению Гегеля, нелепо говорить о любви к людям "вообще" – к тем, кого мы не знаем. Невозможно любить всего лишь мысленное. Любовь к ближнему – это любовь к тем, с кем мы вступаем в отношения, с кем имеем дело чувственно. Также и любовь к Богу возможна лишь тогда, когда он обретает в нашем представлении форму существа, которому можно поклоняться и которое этого достойно. Человеческое стремление к религии есть "потребность силой фантазии соединить в прекрасном, в Боге, субъективное и объективное, чувство и его стремление к предметности..."
В любви к ближнему идеалом нравственных связей Гегелю представляются отношения между братом и сестрой. Это – "беспримесное нравственное отношение", вершина нравственных связей внутри семьи.
Людвиг Фейербах (1804 – 1872) уделил теме любви особое внимание, полагая, что на смену традиционным религиям должна прийти "религия" любви человека к человеку.
Уже в начале своей преподавательской деятельности (1829) Фейербах утверждал в своих лекциях, что теология не знает ни действительного, ни истинного человека, а представляет его абстрактно. Определенность человека возникает лишь посредством любви. "Ребенок лишь тогда становится человеком, когда любит, – говорил молодой приват-доцент. – Сущность любви обнаруживается всего яснее в одном виде любви, в любви мужчины к женщине". А позже Фейербах еще напишет: "...Любовь к женщине есть основание всеобщей любви. Кто не любит женщины, не любит человека".
И в первом опубликованном произведении Фейербаха – "Мысли о смерти и бессмертии" (1830) – речь тоже идет о любви. Бессмертен только Бог; "Бог есть любовь", а любящий человек причастен к Богу и, значит, к бессмертию. Любовь человека различна – к деньгам, вещам, отдельным существам, к человеку вообще, к добру, Богу, истине. Истинность и ценность любви определяются содержанием и объемом чувства. "Чем глубже предмет любви, тем она сильнее, а по этой силе определяется ценность любви: чем больше ты отдаешь самого себя, тем истиннее твоя любовь. Нельзя любить без самоотдачи".
В основу своей философии Фейербах положил "антропологический принцип", смысл которого в том, чтобы свести все сверхъестественное к природе, а сверхчеловеческое – к человеку. А в чем сущность человека, что в нем является собственно человеческим? По мнению Фейербаха, это – разум, любовь и воля. В своем главном произведении "Сущность христианства" он писал: "Человек существует, чтобы познавать, любить и хотеть. Но какова цель разума? – Разум. Любви? – Любовь. Воли? – Свобода воли. Мы познаем, чтобы познавать, любим, чтобы любить, хотим, чтобы хотеть, то есть быть свободными... Истинно совершенно, божественно только то, что существует ради себя самого". Фейербах имеет в виду, что любовь (как и разум, и воля) – абсолютная, а не относительная способность человека; любовь – цель самой себя.
Фейербах выступил с критикой традиционных религий, утверждая, что всякий "бог" – это лишь объективированное и отчужденное человеческое "Я". Там, где главенствует религиозная вера, принцип любви осуществлен недостаточно. Вера делит людей на своих и чужих. "Любовь, ограниченная верой, – не подлинная любовь". Она легко может превратиться в ненависть, "ведь если я не признаю символа веры, то я выпадаю из сферы царства любви, <...> так как существование неверных оскорбляет Бога и является как бы сучком в его глазу. <...> Любовь сама по себе находится вне сферы веры, а вера – вне сферы любви. Но любовь является неверующей потому, что она не знает ничего более божественного, чем она сама... Истинная любовь себе довлеет..."
Фейербах призывает не к отказу от религии вообще (ведь смысл религии, по его мнению, – в соединении людей), а к отказу от иллюзорных, придуманных "богов". Только при этом условии восторжествует настоящая любовь и утвердится религия любви человека к человеку. "Человек человеку Бог – таково высшее практическое основоначало, таков и поворотный пункт всемирной истории. Отношение ребенка к родителям, мужа к жене, брата к брату, друга к другу, вообще человека к человеку, короче, моральные отношения сами по себе суть истинно религиозные отношения".
Метафизика половой любви.
Любовь – неодолимая страсть, побеждающая голос разума, толкающая людей на жертву своим благополучием, порождающая высокие творения искусства и... вдруг исчезающая, как призрак. Какая таинственная сила вводит нас в губительный возвышенный обман? Эта сила – незримая воля, половой инстинкт. Такое объяснение тайны половой любви предложил Артур Шопенгауэр.Все любовные волнения и радости, страхи и горести, вся эта суета, способная целиком заполнить существование человека, на самом деле имеет смысл не для него самого, а только для продолжения рода. Индивиду только кажется, будто добиться благосклонности от "предмета" его любви важно для его собственной жизни. По сути, любовь ничего не дает ему лично в утилитарном смысле, а чаще всего даже отнимает его жизненные силы и блага. С точки зрения здравого рассудка, любовь – безумство. Если бы индивид слушался только рассудка, никакой любви быть не могло бы. Однако тогда пресеклось бы продолжение человеческого рода. Мировая воля не может этого допустить. Она "изобрела" любовь для того, чтобы обмануть рассудительный эгоизм живых существ. Благодаря этой "хитрости" воли человек, охваченный любовной страстью, воображает, будто он преследует свои эгоистичные интересы, добиваясь близости со своей возлюбленной, но когда цель оказывается достигнутой, чары вдруг исчезают – иллюзия становится ненужной.
Хотя любовь – это, по сути, стремление индивида к физическому обладанию другим индивидом ради продолжения рода, все же возвышенная страсть любви – не то же самое, что примитивное половое влечение. Любовь направлена на конкретную особу, а не просто на представителей противоположного пола. Это – тоже проявление "хитрости", т.е. целесообразности, воли рода; дело в том, что воля заинтересована в рождении не просто еще одного существа, но как можно более совершенного, гармоничного индивида. Поэтому мужчины и женщины присматриваются друг к другу, ищут соответствия и взаимодополнения своих физических и духовных особенностей. "Индивидуум действует здесь бессознательно для самого себя, по поручению некоторого высшего начала – рода..." "Это изучение и испытание – не что иное, как размышление гения рода о том индивидууме, который может родиться от данной четы, и о комбинации его свойств". Если мужчина и женщина испытывают друг к другу отвращение, – это признак того, что дитя, которое родилось бы от них, было бы дурно организованным, дисгармоничным, несчастным существом. Чем совершеннее взаимная приспособленность индивидуумов друг к другу, тем сильнее их любовная страсть. "То упоительное восхищение, какое объемлет мужчину при виде женщины соответствующей ему красоты, суля ему в соединении с нею высшее счастье, это именно и есть тот дух рода, который, узнавая на челе этой женщины явный отпечаток рода, хотел бы именно с нею продолжать последний". Избирательность, вдохновенное стремление к конкретному индивиду, а не к любому представителю противоположного пола как раз и отличают любовь от пошлого полового влечения.
Шопенгауэр, исходя из своей концепции, объясняет, почему любовь побуждает людей к искусству, особенно к поэзии, посредством которой смертные пытаются метафорически выразить ощущение чего-то бессмертного, неземного, трансцендентного. "Тоска любви, которую поэты всех времен неутомимо воспевали на разные и бесконечные лады... это – вздохи гения рода, который видит, что здесь ему суждено обрести или потерять незаменимое средство для своих целей, и потому он глубоко стонет". Только род способен к бесконечной жизни, бесконечным желаниям, удовлетворениям и скорбям; индивид, охваченный любовным чувством, слишком мал по сравнению с безмерной волей рода, его "грудь иногда готова разорваться и не может найти выражения для переполняющих ее предчувствий бесконечного блаженства и бесконечной скорби". Эти безмерные чувства дают содержание трансцендентным метафорам, воспаряющим над всем земным.
Моментом зарождения нового индивида следует считать, по мнению Шопенгауэра, начало увлечения его родителей друг другом. Любовь – это "трепет" нового поколения, "воля к жизни нового индивидуума". Любовное влечение должно преодолеть все препятствия, пренебречь понятиями чести, долга, верности – ради рождения нового гармоничного индивида. Любящие люди жертвуют своим счастьем ради рода; взамен для себя лично они не получают того блаженства, на какое могли бы рассчитывать. Любовное чувство угасает, когда его цель достигнута, и тогда может обнаружиться, что, кроме слепой страсти, двух людей ничего не связывало. Они больше не нужны друг другу. Брак по расчету обычно счастливее, чем брак по любви, считает Шопенгауэр, ведь корыстный расчет сохраняет свою силу и тогда, когда иллюзия любви рассеивается; однако брак по любви, даже несчастливый, все-таки возвышеннее, – он соответствует природному назначению. "Мужчина, который при женитьбе руководится деньгами, а не своею склонностью, живет больше в индивидууме, чем в роде, а это прямо противоречит истинной сущности мира, является чем-то противоестественным и возбуждает известное презрение. Девушка, которая вопреки совету своих родителей отвергает предложение богатого и нестарого человека, для того чтобы, отбросив всякие условные соображения, сделать выбор исключительно по инстинктивному влечению, приносит в жертву свое индивидуальное благо благу рода. Но именно потому ей нельзя отказать в известном одобрении, так как она предпочла более важное и поступила в духе природы (точнее – рода), между тем как совет родителей был проникнут духом индивидуального эгоизма".
Впрочем, и брак по любви не обязательно должен иметь печальный финал. Иногда, пишет Шопенгауэр, к страстной половой любви присоединяется чувство совсем иного происхождения – дружба, основанная на солидарности взглядов мужчины и женщины. И все же дружба не заменяет любви – это разные феномены.
Смысл любви.
Владимир Сергеевич Соловьев в работе "Смысл любви" оспаривает распространенное мнение, будто любовь – это лишь средство для продолжения рода. Смысл ее не в том. Наоборот, чем сильнее любовь, тем менее она способствует размножению. Подтверждение этой мысли можно найти в природе: во-первых, размножение возможно не только без любви, но даже бесполым образом (деление, почкование, партеногенез); во-вторых, можно заметить, что чем выше определенный вид существ стоит на ступенях эволюции, тем меньше у него оказывается "сила размножения" (т.е. плодовитость особей), а сила полового влечения, наоборот, – больше. Значит, "половая любовь и размножение рода находятся между собою в обратном отношении: чем сильнее одно, тем слабее другая". "...На двух концах животной жизни мы находим, с одной стороны, размножение без всякой половой любви, а с другой стороны, половую любовь без всякого размножения, – значит, эти явления не подчинены друг другу и имеют самостоятельное значение.Эти соображения Соловьева направлены прежде всего против теории А. Шопенгауэра, согласно которой половая любовь является средством полового инстинкта, орудием размножения. По мнению русского мыслителя, шопенгауэровская теория не способна объяснить тот факт, что у людей самая великая любовь обычно не дает не только великого, но и вообще никакого потомства, а подчас приводит человека и к самоубийству.
Настоящий смысл любви заключается не в размножении, а в стремлении человека к единству с другими, причем к такому единству, в котором не теряется его индивидуальность. В любви человек отрицает свой эгоизм и вместе с тем не утрачивает, а, наоборот, обретает свое настоящее "Я". Заблуждение эгоиста состоит в том, что, пренебрегая достоинством других, он тем самым лишает смысла свое собственное существование среди людей, которых не уважает и не любит.
Благодаря любви нам открывается идеальная сущность человека, обыкновенно закрытая его "материальной оболочкой". Идеализация любимого человека не искажает его "подлинный" образ, а как раз позволяет увидеть, что, кроме животной материальной природы, он имеет в себе природу идеальную, связывающую его с Богом.
"Идеальный" человек должен быть целостным, однако в повседневной жизни нам встречаются только "половинки" человека – т.е. либо мужчины, либо женщины. "Осуществить это единство, или создать истинного человека, как свободное единство мужского и женского начала", – в этом Соловьев видит ближайшую задачу любви.
Высшим типом и "идеалом всякой другой любви" является, по Соловьеву, "половая любовь". По сравнению с нею меньшее значение имеют и материнская любовь, и дружеские отношения, а также патриотические чувства, любовь к человечеству, науке, искусству и т.п. Ведь именно в любви мужчины и женщины возникает идеальное единство противоположных начал – образ целостного, "истинного" человека.
Любовь Соловьев отличает от "внешнего соединения" – от "житейского" (брачного) и особенно от "физиологического". И брак, и секс возможны без любви, как и любовь бывает без них. Они должны быть не основанием, а высшим завершением любви. Однако исключительно духовная любовь, – считает Соловьев, – тоже аномалия, явление бесцельное.
Человеческой любви, по мнению Соловьева, предшествует "идеал Божьей любви". Бог как единый соединяет с собою все другое (т.е. вселенную), и это другое имеет для Него образ совершенной, вечной Женственности. И для человека предметом любви является, по сути, одна и та же "вечная Женственность", хотя конкретная женская форма земной природы может быть и преходящей, поэтому человеческая любовь может повторяться.
Реальные условия, в которых мы живем, не благоприятствуют любви. Она должна себя отстаивать против игры животных страстей и еще худших страстей человеческих. "Против этих враждебных сил у верующей любви есть только оборонительное оружие – терпение до конца". Полное осуществление любви в мире, считает Соловьев, невозможно без соответствующего преобразования всей внешней среды, т.е. без обеспечения "сигизии" (от греч. "сочетание") в жизни общественной и всемирной.
Николай Александрович Бердяев уделил теме любви значительное внимание во многих работах: "Смысл творчества" (1916), "О назначении человека" ("Опыт парадоксальной этики") (1931), "О рабстве и свободе человека" (1939) и др. В суждениях Бердяева о любви синтезированы идеи христианства и воззрения Платона, А. Шопенгауэра, Н.Ф. Федорова, В.С. Соловьева, З. Фрейда. Он не создал систематизированного "учения о любви", не стремился дать ей "теоретическое объяснение", а рассматривал ее в соотнесении с такими важными для него "предметами", как личность, свобода, творчество.
Будучи приверженцем философии персонализма, Бердяев особое значение придавал понятию личности; а смысл любви, по его мнению, состоит в том, что благодаря ей личность совершенствуется, стремится к идеальному бытию, относится к другому индивиду, как к личности.
Бердяев, вслед за В.С.Соловьевым, отличает любовь от полового влечения и противопоставляет их друг другу. Половое влечение продиктовано "волей рода", оно подавляет индивида, смеется над его индивидуальными целями. Любовь, напротив, индивидуальна, направлена на неповторимую и незаменимую личность. Личное и родовое начала находятся в антагонизме между собой: чем больше индивидом овладевает половое влечение, тем меньше в нем остается личного, и соответственно сильная любовь к другой личности может ослаблять родовые инстинкты.
Половое влечение порабощает, тогда как любовь ведет человека к освобождению от рабства – природного, состоящего в следовании животным инстинктам, и социального, подчиняющего индивида обыденным безличным нормам социальной жизни.
"В подлинной любви есть творческий прорыв в иной мир, преодоление необходимости", она – неземная гостья, она зовет к иной жизни. В силу инородности ей трудно ужиться в нашем мире, она – "не здешний цветок, гибнущий в среде этого мира". Она – высшее призвание, над которым не властны предписания житейского здравого смысла, она может уступить лишь зову свободы или сострадания: "Нельзя отказаться от любви... во имя долга, закона, во имя мнения общества и его норм, но можно отказаться во имя жалости и свободы". Природа любви – космическая, она "не от мира сего"; любовь приходит к нам не по нашему произволу, но по божьей воле; она выше людей, поэтому не должна бояться причиняемых ею страданий.
По мнению Бердяева, пол имеет природу не только физиологическую, но и мистическую. Пол – это полярность, которая расщепляет весь мир, наполняет его половым томлением, жаждой соединения. Пол, половинчатость, пронизывает и все существо человека, заряжает его творческой энергией. Половое влечение – это и есть творческая энергия в человеке, – утверждал Бердяев, ссылаясь на учение З. Фрейда. Связь между творчеством и рождением в том, что и то и другое являются "разрядкой" энергии пола; противоположность – в том, что творческая и родовая продуктивность человека обратно пропорциональны. Деторождение отнимает энергию от творчества. "Наиболее рождающий – наименее творящий".
Любовь не только побуждает личность к свободе, развитию и творчеству, но и открывает нам глаза на других личностей. "Любящий прозревает любимого через оболочку природного мира... Любовь есть путь к раскрытию тайны лица, к восприятию лица в глубине его бытия". Напротив, сексуальный акт закрывает тайну лица. Он дает поверхностное и призрачное соединение, после которого отчужденность между мужчиной и женщиной становится еще большей.
Такое соединение развратно. От развратности его не спасает и официальный брак. Разврат, по мнению Бердяева, состоит не в "недозволенных" формах соединения, а в недостаточном соединении, при котором не происходит проникновение в "тайну лица".
Существуют, как отмечает Бердяев, три точки зрения на смысл полового соединения. Смысл его видят: 1) в деторождении; 2) в получении наслаждения; 3) в стремлении к единству с любимым. Только последний, по убеждению философа, является морально и духовно оправданным, так как предполагает одухотворение пола, утверждает достоинство личности.
«Механика» Эроса.
Из всех эротических теорий ни одна не наделала столько шума в научных кругах и в общественном мнении, сколько теория австрийского ученого Зигмунда Фрейда (1856-1939). Встреченная поначалу в штыки (в конце 90-х годов XIX века), она, спустя лет десять, обрела приверженцев, а еще через несколько лет о ней заговорили чуть ли не как о теории обновления мира. Фрейд, собственно говоря, – психиатр; его прямой задачей являлось лечение пациентов от неврозов, а не решение философских проблем. Однако его научным исследованиям суждено было сыграть значительную роль в философии и мировоззрении XX века.Вопреки расхожим представлениям, Фрейд предположил, что невроз – это болезнь не нервов, а психики, т.е. источником неврозов являются не повреждения или функциональные разлады нервной системы, а мучительные впечатления и переживания. Поэтому исцеление может быть достигнуто посредством коррекции сознания и психики пациента, а не лекарствами, массажем и т.п. Придя к такой мысли, Фрейд стал разрабатывать новую теорию строения и функционирования психики, опираясь при этом на свой психотерапевтический опыт. Наиболее революционную роль сыграло учение Фрейда о бессознательном, о его влиянии на сознание, об эротическом характере глубинных мотивов поведения. Тем самым его теория вторглась в "епархию" философии, ломая там предрассудок о единовластии разума в человеческой жизни.
Мы должны хотя бы в самых общих чертах уяснить фрейдовское объяснение природы невроза, чтобы понять его суждения о любви. Основой невроза, по мнению Фрейда, является конфликт между "принципом удовольствия" и "принципом реальности", происходящий в психике человека. Когда конфликт достигает невыносимой остроты, человек от него "сбегает в болезнь", ищет в ней спасения от диктата реальности.
Как возникает этот конфликт? Каждый младенец от рождения совершенно бессознательно подчиняется в своем поведении "принципу удовольствия", купается в наслаждениях и стремится избегать неприятных ощущений. Он насквозь эротичен, не способен ни к какому самоограничению, он – совершенно безнравственный сластолюбец. Детская сексуальность связана, преимущественно, со ртом и анусом, а не с половыми органами, поскольку последние еще не достигли зрелости. (Именно учение о детской сексуальности вызвало наибольшее негодование общественности: "Как можно ангельски невинное дитя представлять сладострастником?!") Со временем окружающая среда начинает неумолимо ограничивать детские "права" на удовольствия, принуждает считаться с требованиями внешнего мира (ребенка отлучают от материнской груди, приучают испражняться в сосуд, сидеть, ходить и т.д.). Таким образом, в противовес единовластному "принципу удовольствия" в психике начинает формироваться "принцип реальности" и вместе с ним – сфера сознания, человеческое "я". Под давлением внешней реальности человек вынужден отказываться от чисто "сексуального мышления", познавать законы реальности и приспосабливаться к ним.
Для взрослого человека, живущего в современном обществе, совершенно недопустимы те вольности, которые естественны для младенца. Однако "первичные позывы" к удовольствиям у взрослого не исчезли. Что же с ними стало? Они либо подавлены (т.е. вытеснены в бессознание, хотя и не ликвидированы), либо "окультурены", преобразованы в непрямые формы осуществления, изменены иногда почти до неузнаваемости (все равно как дерево в результате обработки становится совсем непохожим на него столом). В итоге "принцип реальности" берет верх над "принципом удовольствия", но последний не уходит в небытие. Первичные позывы сластолюбия, которые Фрейд обозначил собирательным термином "либидо" (лат. libido – влечение, желание, страсть), должны так или иначе – не прямо, так косвенно – получать удовлетворение. В противном случае, либидо уподобится пару в наглухо закрытом паровом котле. Грубое рассогласование между сознанием и бессознанием, между "хочу" и "нельзя" ведет к неврозу, неадекватным поведенческим реакциям.
Понятие любви, в трактовке Фрейда, – это обобщение всего того, что происходит от энергии первичных позывов (либидо), т.е. это – половая любовь с целью совокупления, а также любовь к себе, любовь родителей, любовь детей, дружба и общечеловеческая любовь. Он писал: "...Психоанализ научил нас рассматривать все эти явления как выражение одних и тех же побуждений первичных позывов..." Фрейд утверждал, что его понятие "либидо" в принципе совпадает с платоновским понятием "эрос".
Изначальное, прирожденное либидо меняет в процессе взросления человека способы своего проявления. Самое раннее эмоциональное влечение ребенка к другим проявляется в виде "идентификации". Это – отождествление себя с кем-то, копирование кого-то любимого или, наоборот, нелюбимого, представление себя вместо кого-то отсутствующего или утраченного (например, отца, матери). "Идентификация, – замечает Фрейд, – между прочим, имеет своим следствием ограничение агрессии против человека, с которым идентифицируются; этого человека щадят и ему помогают".
Идентификация играет определенную роль в возникновении у человека "Эдипова комплекса", которому Фрейд придавал очень важное значение для понимания человеческого поведения. Маленький сын поначалу идентифицирует себя с отцом, видя в нем свой идеал. По отношению к любимой матери он хотел бы выполнять ту же роль, что и отец, но в таком случае само наличие отца препятствует осуществлению этого желания (у девочек соответственно все наоборот). Первоначально ребенок делает любимое лицо объектом своих еще неверно направленных сексуальных устремлений. В результате идентификация с отцом принимает враждебную окраску, отношение к отцу становится амбивалентным (двойственным): он одновременно и идеал, и соперник. "Амбивалентная установка к отцу и только нежное объектное стремление к матери является для мальчика содержанием простого позитивного "Эдипова комплекса". Разрушение "Эдипова комплекса" происходит путем "отказа" от матери как предмета любви в пользу отца, т.е. сын в конце концов "уступает" мать отцу. После этого может усилиться его идентификация либо с матерью, либо с отцом. Второй исход более желателен, так как сохраняет нежное отношение к матери и укрепляет мужество в характере мальчика. "Нежелательный" исход чаще бывает у девочек, чем у мальчиков. "Очень часто из анализа узнаешь, – писал Фрейд, – что после того как пришлось отказаться от отца как объекта любви, маленькая девочка развивает в себе мужественность и идентифицирует себя уже не с матерью, а с отцом, т.е. потерянным объектом".
Первая детская любовь, связанная с "Эдиповым комплексом", вытесняется из сознания в бессознание и продолжает существование в скрытом, "забытом" виде, а остаток любовных чувств проявляется уже только в нежной (а не сексуальной) форме. Нежное чувство – во всех его разнообразных проявлениях – является, по мнению Фрейда, преемником прежнего, вполне чувственного, влечения.
Фрейд различает два течения любви – нежное и чувственное. В норме они должны сливаться вместе в половой любви, в противном случае человек обречен страдать импотенцией (фригидностью). Из этих двух течений нежное зарождается первым – еще в раннем детстве. Оно сначала направлено на членов семьи, на тех, кто занят воспитанием ребенка; оно содержит и некоторую долю полового влечения (нередко от малыша можно услышать обещание жениться на матери, сестре, воспитательнице детского сада). Да и нежность родителей и воспитателей не свободна от эротики.
При половом созревании к нежному течению присоединяется чувственное. Ему свойственно идти уже проторенными путями, фиксироваться на объектах первого инфантильного выбора. Однако там оно натыкается на препятствия запрета и стыда кровосмесительства (инцеста) и потому стремится поскорей перейти на посторонних людей, с которыми возможно половое сожительство. Выбор этих посторонних опирается на образцы первичной инфантильной привязанности; со временем на них переносится и нежность, направлявшаяся прежде на первых избранников. Таким образом, нежное и чувственное течения должны слиться воедино.
Однако это происходит не всегда: во-первых, выбор "постороннего" может быть по каким-то причинам запрещен; во-вторых, первые, детские, объекты выбора, от которых следовало бы уйти, могут оказаться слишком привлекательными. "Если эти два фактора достаточно сильны, то начинает действовать общий механизм образования неврозов. Либидо отвращается от реальности, подхватывается работой фантазии, усиливает образы первых детских объектов и фиксируется на них". В таких условиях (т.е. среди своих родных и близких) свободно проявляется лишь нежное течение, а чувственное – вследствие страха перед инцестом – вынуждено прятаться; отныне оно способно проявиться лишь по отношению к тем, кто не напоминает обожаемых людей (родных и близких). То есть получается так, что сексуальное влечение раскрепощается лишь во взаимоотношениях с малопочитаемым посторонним человеком. Любовная жизнь в таком случае оказывается расщепленной на "возвышенную" ("небесную") и "низменную" ("земную", "животную"). "Когда они любят, они не желают обладания, а когда желают, не могут любить".
Поскольку чувственное наслаждение оказывается возможным только с приниженным партнером, бывают случаи, когда какая-то незначительная черта партнера напомнит о человеке, от которого следует уклоняться во избежание инцеста, – и тогда возникает психическая импотенция. Вообще к ней предрасположены все культурные люди, а не какие-то отдельные лица. "Нежное и чувственное течения, – писал Фрейд, – только у очень немногих интеллигентных мужчин в достаточной степени спаяны; мужчина почти всегда чувствует себя стесненным в проявлениях своей половой жизни благодаря чувству уважения к женщине и проявляет свою полную потенцию только тогда, когда имеет дело с низким половым объектом". Отсюда – склонность мужчин с высоким социальным статусом выбирать женщин, не претендующих на возвышенность чувств, отсюда – и "любовь к проститутке".
Женскую фригидность Фрейд объясняет длительным половым воздержанием и переводом чувственности в область фантазии. Впоследствии женщина затрудняется преодолеть ставшую привычной связь между чувственным желанием и запретом. Многим женщинам свойственно стремление сохранить тайну даже тогда, когда сношения ей уже дозволены. Немало таких, у которых способность нормально чувствовать появляется только в условиях нового запрета – при тайной любовной связи.
Запрет в любовной жизни хотя и имеет негативные последствия, однако неограниченная с самого начала половая свобода также влечет за собой нежелательные результаты. Определенная сдержанность повышает либидо, развивает нежную привязанность к другому. Незаторможенные сексуальные влечения резко ослабевают при достижении цели. "Чувственная любовь приговорена к угасанию, если она удовлетворяется; чтобы продолжаться, она с самого начала должна быть смешана с чисто нежными, т.е. заторможенными в целевом отношении компонентами..." Заторможенные сексуальные позывы имеют то преимущество, что они не способны к полному удовлетворению, и потому они обеспечивают существование длительных связей между людьми. Фрейд отмечает, что беспрепятственное удовлетворение чувственности, которое было характерно, например, для периода падения античной культуры, опустошает жизнь. Напротив, "аскетические течения христианства дали любви психическую ценность, которой ей никогда не могла дать языческая древность. Наивысшего значения любовь достигла у аскетических монахов, вся жизнь которых была наполнена почти исключительно борьбой с либидонозными искушениями".
Сексуальные ограничения необходимы для культурного воспитания человека. Энергия либидо в таком случае вынуждена искать для себя выход в какой-либо "легальной" активности, например, – в творчестве; происходит, таким образом, ее сублимация (от лат. sublimare – возносить). Именно благодаря ограничениям и сублимации, считал Фрейд, становятся возможными великие достижения человеческой культуры. Ведь если бы мы имели возможность беспрепятственно получать удовольствия, то "не отошли бы от этого счастья и не делали дальнейших успехов".
Однако влечения либидо и требования культуры противоречат друг другу. Разлад между ними обусловливает не только высшие творческие достижения людей, но и опасность заболевания неврозом. Взаимный антагонизм между культурой и либидо, к сожалению, неизбежен, так как человечество не в состоянии отречься ни от своей животной основы, ни от культуры. С этим нужно примириться, – считал Фрейд.
Важная заслуга Фрейда состоит в том, что он сделал явления эротической сферы предметом научного исследования (а не только умозрительного теоретизирования). Но именно научный подход предопределил и механистичность фрейдовского учения. Вообще механистический метод мышления сыграл и продолжает играть очень ценную роль в развитии познания: он требует подробного анализа явления, выявления всех "деталей механизма", определения их функций, установления причинно – следственных связей. Вместе с тем механицизм абстрагируется от учета принципиально ненаблюдаемых "сущностей", – в их число входят и те, которые в философии называются термином "идеальное". Кропотливо исследуя части "эротического механизма", Фрейд волей-неволей недосмотрел саму любовь как "идеальную сущность". Это все равно что самым тщательным образом изучить устройство авторучки, бумаги, человеческой руки и мозга, но так и не понять, что же такое письмо, так как суть письма оказывается где-то за пределами всех этих компонентов писания.
Искусство любви. Эрих Фромм.
Эрих Фромм (1900-1980) – немецко-американский философ, социолог и психолог, утверждал, что способность любить – важнейшая черта человеческой личности и что любовь – критерий подлинности человеческого бытия, ответ на проблему человеческого существования.Взгляды Фромма на природу любви и ее значение в человеческой жизни составляют существенную часть разрабатывавшейся им "гуманистической этики", которая, по его формулировке, есть "прикладная наука "искусства жить", основанная на теоретической "науке о человеке". Таким образом, "искусство жить" у Фромма включает в себя "искусство любить".
Утверждение, что любовь – это искусство, а не инстинкт и не дар свыше, выражает специфику взглядов Фромма. Заблуждаются те, кто думает, будто любовь к нам приходит совершенно независимо от нас – как неподвластный нам инстинкт или как счастливый случай, как стечение внешних обстоятельств, подарившее нам любимого. Дело прежде всего в том, умеем ли мы сами любить. Фромм сравнивает способность любить со способностью, например, к рисованию: представим себе человека, который хотел бы замечательно рисовать, но вместо того, чтобы учиться этому делу, стал бы дожидаться счастливого случая, когда ему повстречается "достойный предмет", воображая, будто тогда он сразу станет рисовать великолепно. Все человеческие способности, умения должны вырабатываться, формироваться благодаря нашим усилиям и опыту; это в полной мере относится и к любви.
Прежде чем сказать, из чего складывается умение любить, нужно выяснить, почему люди ищут любви. По мнению Фромма, любовь – это путь преодоления отделенности людей друг от друга. Разобщенное существование невыносимо для человека, оно вводит и держит его в состоянии тревожности. Фромм рассматривает несколько способов, какими люди пытаются вырваться из одиночества.
Первый: переход в оргиастическое состояние. Оно представляет собой транс, в который человек впадает при помощи наркотиков, алкоголя, секса. При состоянии экзальтации теряется из виду внешний мир, а вместе с ним и чувство отделенности от него. Эти состояния на время избавляют человека от тревоги, но в принципе проблему отделенности не снимают.
Другой способ: приспособление индивида к группе. Он требует от личности конформизма: чтобы быть принятым в группу (попасть в "тусовку"), нужно поступиться своим личным достоинством ("не высовываться из толпы"), подчиниться правилам стада. По сравнению с оргиастическими состояниями стадный конформизм обладает тем достоинством, что он стабилен, а не периодичен. Он частично снимает проблему отделенности "я" от мира, но – за счет утраты "я".
Третий способ: погружение в творческую деятельность. Человек творящий, созидающий сливается с предметом своей деятельности, благодаря чему объединяет себя с миром. При этом не происходит, как в двух предыдущих случаях, ни утраты мира, ни утраты "я", однако достигаемое тут единение с миром все же не является межличностным (между "я" и другим "я").
Наконец, четвертый путь – любовь – Фромм считает подлинным преодолением человеческой отделенности от других. Причем сразу делается оговорка: собственно любовью следует называть зрелые ее формы, а незрелые – это не любовь, а только "симбиотический союз" (от биологического термина "симбиоз"). При симбиотическом единении два человека (условно называемые "садист" и "мазохист", т.е. подчиняющий и подчиняющийся) связаны зависимостью, из-за которой каждый из них утрачивает свою внутреннюю целостность и свободу, а значит, – утрачивает свое "я". В противоположность этому "зрелая любовь это единение при условии сохранения собственной целостности, собственной индивидуальности".
Зрелая любовь, по Фромму, характеризуется такими чертами, как отдавание, забота, ответственность, уважение и знание.
Отдавание в любви – это не сделка, требующая что-то взамен, и не транжирство, обедняющее нас. Это – проявление нашей силы и жизнеспособности, дающее радость нам самим.
Забота – это активная заинтересованность в жизни и развитии "предмета" любви. Например, если кто-то говорит, будто любит цветы, но забывает их поливать, мы усомнимся в искренности его слов.
Ответственность – это не налагаемая извне обязанность, а внутренне осознанный долг (ответственность перед судом своей совести) заботиться о другом.
Уважение – это способность видеть в другом человеке не средство для достижения моих целей, но признавать, что он сам – равноценный мне человек, имеющий собственные цели.
Знание в любви – это не банальная осведомленность о "параметрах" или биографии другого, а опыт интуитивного "вживания" в потаенность души другого, сопереживания с ним.
Названные черты зрелой любви имеют место во всех многообразных отношениях, именуемых любовью. "Любовь это не обязательно отношение к определенному человеку; это установка, ориентация характера, которая задает отношения человека к миру вообще, а не только к одному "объекту" любви". Фромм далее рассматривает различные виды любви, выявляя их особенности и вместе с тем показывая, что во всех них проявляется одна и та же "ориентация характера" человека; т.е. если я способен любить какого-то человека, то это – проявление моей способности (ориентации характера) любить вообще – других людей, жизнь, родину, себя и т.д.
Братская любовь, по мнению Фромма, составляет основу всех других видов любви. Это – способность уважать, заботиться, сопереживать по отношению к любому человеку – "ближнему" или "дальнему". Она особенно очевидна во взаимоотношениях с беспомощным существом. "Любовь начинает проявляться, – отмечает Фромм, – только когда мы любим тех, кого не можем использовать в своих целях".
Родительская любовь, в отличие от братской, предполагает определенное "распределение ролей". Ребенок любит родителей иначе, чем они его. Лет до 8-10 для ребенка проблема состоит почти исключительно в том, чтобы быть любимым, а не любить самому. Лишь позже начинает появляться (а может и не появиться) стремление что-то дать родителям, т.е. любить их, а не только быть любимым ими. Между родителями тоже имеется некоторое "распределение ролей" (хотя и не всегда отчетливое). Материнской любви к ребенку чаще свойственна безусловность, независимость от того, как к ней относится ребенок. Отцовская же любовь обычно – обусловленная, т.е. отличается большей требовательностью; любовь отца ребенок должен "заслужить". Сочетание безусловной материнской и обусловленной отцовской любви наиболее благоприятно для гармоничного развития ребенка. Зрелость материнской любви состоит в ее способности желать для ребенка не усиления его зависимости от матери (что характерно для симбиотической связи), а, напротив, отделения от матери, основанного на росте самостоятельности ребенка.
Эротическая любовь отличается от братской и родительской тем, что направлена на единственного человека и жаждет нераздельного слияния с ним; к тому же, замечает Фромм, это самая обманчивая форма любви. Ее легко спутать с "влюбленностью", незрелой формой эротической любви. Влюбленность – это эйфория, возникающая благодаря внезапному и волнующему сближению, крушению барьеров между людьми: тот, кто был чужим и недоступным, вдруг становится близким и открытым. "Говорить о собственной личной жизни, о собственных надеждах и тревогах, показать свою детскость и ребячливость, найти общие интересы – все это воспринимается как преодоление отчужденности. Даже обнаружить свой гнев, свою ненависть, неспособность сдерживаться – все это принимается за близость. <...> Но во всех этих случаях близость имеет тенденцию с течением времени сходить на нет. В результате – поиски близости с новым человеком, с новым чужим". Влюбленность проходит, когда исчезает чувство новизны, открытия другого. "Если бы познание другого человека шло вглубь, если бы познавалась бесконечность его личности, то другого человека никогда нельзя было бы познать окончательно – и чудо преодоления барьеров могло бы повторяться каждый день заново". Состоятельность эротической любви в наибольшей степени зависит от того, насколько зрелым является у каждого из двоих умение любить.
Любовь к себе – это не альтернатива любви к другим, а проявление общей ориентации человека на любовное отношение ко всему. Заботясь о развитии своей личности, уважая и познавая свое "я", мы вместе с тем развиваем в себе способность ценить другую личность. Эгоизм – это лишь незрелая любовь к себе. По существу, "эгоистичные люди неспособны любить других, но они неспособны любить и самих себя".
Любовь к Богу для человека современного западного мира – "это, в сущности, то же, что и вера в Бога..." Как считает Фромм, Бог для нынешних людей все более становится символом, в котором выражается реальность духовного мира и все то высокое, к чему стремятся сами люди. Характер любви человека к богам соответствует природе любви человека к человеку.
Отношение людей к богам, начиная с первобытной эпохи, прошло длительную эволюцию. История любви к Богу запечатлела косвенно развитие самой способности человека любить. Эта способность менялась и меняется, обнаруживая свою зависимость от характера господствующих общественных отношений. Фромм охарактеризовал отношения в современном ему капиталистическом обществе как рыночные и считал, что они разрушительны для человеческой способности любить (отношениям в социалистическом обществе с их обезличивающим коллективизмом он давал столь же нелестную оценку).
В современном обществе господствуют меновые отношения. Мужчины и женщины оценивают и выбирают друг друга наподобие товаров – по "потребительским" качествам, следуя рыночному принципу полезности товара; при этом выпадает из внимания самоценность человеческого "я". Подчиняясь законам рыночных отношений, люди не отличают себя самих от товаров и уподобляются живым автоматам, действующим по заданной программе. Но автоматы не могут любить, они способны только к наслаждению; их семейные отношения оцениваются по критерию слаженности (невзирая на наличие или отсутствие "глубинных связей"); неудивительно, что преувеличенное значение придается "правильной технике" секса. Современное общество, считает Фромм, обусловливает разложение любви, порождает различные формы "невротической любви" – такие как инфантильная привязанность к матери или отцу, безответная любовь–поклонение, фантазии о прошлой или будущей любви, стремление перевоспитывать любимого, перенесение смысла своей жизни на детей. Этими соображениями Фромм подводит читателя к выводу, что "общество должно быть организовано таким образом, чтобы социальная, любящая природа человека не отделялась от его социального существования, а воссоединялась с ним". Общество должно быть ориентировано на принципы "гуманистической этики".
Любовь – конфликтная игра зеркальных отражений.
Жан-Поль Сартр исследует феномен любви с принципиально новой по сравнению с предшественниками позиции – экзистенциально-феноменологической. Феномен любви здесь не выводится из инстинктов, или божественного предопределения, или социальных отношений, а рассматривается в аспекте диалогической связи "я" и "другого", стремления личности завоевать себе свободу и признание, найти опору и оправдание своего бытия.Сартр подобно Соловьеву и Бердяеву оспаривает мысль, будто любовь – это стремление к физическому обладанию "предметом" любви. Если бы мужчина, любя женщину без взаимности, имел полную власть распоряжаться и обладать ею, он неизбежно испытал бы глубокое разочарование. Любящему не нужен всего лишь "автомат страсти", с которым он был бы все же одинок, не получая от любимой искреннего признания ценности его персоны.
Любящий, по сути, стремится к иному – не лишить любимого свободы, а "соблазнить" и "очаровать" эту чужую свободу, чтобы она сама себя пленила, сама привязала себя к "соблазнителю".
Почему любящий жаждет именно свободной взаимности от любимого? Как показывает Сартр, дело в том, что человек хочет при помощи другого добиться признания реальности и ценности своего бытия. Сам по себе я был бы "ничто", пока мое существование и моя ценность не были бы признаны другими людьми. (На Земле есть миллиарды людей, которые для меня – "ничто", не существуют как личности, пока я кого-то из них не узнаю и не признаю.) То есть мое бытие (в отличие от "ничто", каким я был бы при отсутствии признания) зависит от Другого. Другой "дает мне бытие и тем самым владеет мною". Наибольшую ценность мне придавало бы признание со стороны того, кого я сам признаю особо ценным существом.
Поскольку другой "дает мне бытие" (т.е. благодаря его признанию я обретаю некоторое достоинство, становлюсь "чем-то"), постольку вместе с тем я оказываюсь и зависимым от другого; эта зависимость ограничивает мою свободу и, значит, умаляет мое "я". (Ведь я – настолько "я", а не вещь среди вещей, насколько, в отличие от вещи, свободен, способен к самоопределению.) Таким образом, замечает Сартр, мое "бытие-для-другого" изначально конфликтно: другой дает бытие моему "я" и в той же мере отнимает у меня мое "я".
Я стремлюсь "отвоевать" у другого мое бытие. Я хочу заставить другого, который уже признал меня "чем-то" (т.е. наделил меня, будто я вещь, определенным значением), признать меня еще и свободным (т.е. неопределенным, т.е. – "ничем"!). Неустранимая конфликтность моего "бытия-для-другого" в том, что я хочу быть для него одновременно "чем-то" (как вещь) и "ничем" (как свобода). Этот конфликт является условием любви, и сама "любовь есть конфликт".
В понимании Сартра, любовь – это предприятие по отвоеванию моего бытия у другого путем овладения его свободой. Исследуя феномен любви, Сартр, очевидно, имел в виду любовь вообще, а не только половую. Сартр называет любовь "предприятием" потому, что она – не какая-то сама по себе существующая "сила", довлеющая над свободой человека (вроде "инстинкта"), а преднамеренное "проектирование" и осуществление человеком своих возможностей и действий.
В любви я хочу пленить свободу (вдумаемся в противоречивость этого словосочетания!) другого, т.е. чтобы другой сам – свободно! – пленялся мною. Любящий не удовлетворяется даже свободной "присягой на верность" и раздражается даваемыми ему клятвами, – он хочет быть свободно любимым каждый данный миг, а не в силу когда-то данного ему – хотя бы и свободно – слова.
Как можно представить себе "плененную свободу"? Свобода человека может пленить сама себя, оставаясь все же свободой, если она стремится утонуть в свободе другого, видя в нем абсолютную ценность, смысл своего бытия, непревосходимый предел для себя. Для большей наглядности вообразим себе человека, свободу которого ограничили бы стенами, настолько удаленными, что он никогда не смог бы их достичь и увидеть: у этого человека не было бы оснований считать себя невольником – свобода его действий фактически ничем не ограничена в пределах его возможностей. Вот таким неисчерпаемым "застенком", непревосходимой реальностью любящий и стремится стать для любимого, чтобы пленить его свободу.
Чужая свобода, пленяющаяся мною, придает мне значение высшей ценности. Теперь я не ничто, а все: я даю бытие другому, любящему меня. "Мое существование обеспечено тем, что оно необходимо. Это существование, насколько я беру его на себя, становится чистым благодеянием. Я существую потому, что раздариваю себя. <...> Как я хорош тем, что у меня есть глаза, волосы, брови, и я их неустанно раздариваю в преизбытке щедрости в ответ на неустанное желание, в которое по своему свободному выбору превращается другой. Тогда как раньше, когда нас еще не любили <...> мы чувствовали себя "лишними", теперь мы ощущаем, что наше существование принято и безусловно одобрено в своих мельчайших деталях... Вот источник радости любви, когда она есть: чувство, что наше существование оправдано".
Но – вот парадокс! – "если другой меня любит, он подсекает в корне мои ожидания самою своей любовью..." Я-то ожидал, что он мне "даст бытие" – т.е. извне меня признает меня, а он сам "погрузился" в мое бытие, в мою свободу; таким образом он вновь возложил на меня задачу самому искать оправдания – признания моего бытия. Единственное, чего я смог добиться, – овладел свободой другого, устранив угрозу "кражи" у меня моего бытия (моего "я") со стороны чужой свободы, т.е. устранил угрозу взгляда на меня как на вещь (взгляда, наделяющего меня бытием вещи и не признающего моей свободы). "Чем больше меня любят, – пишет Сартр, – тем вернее я утрачиваю свое бытие, тем неотвратимее возвращаюсь к существованию на свой страх и риск, к своей собственной способности обосновать свое бытие".
Чтобы стать любимым, я соблазняю и очаровываю. Я стараюсь предстать перед другими как что-то очень ценное, "я предлагаю себя как непревосходимую величину". "Соблазнение имеет целью вызвать в другом сознание своего ничтожества перед лицом соблазнительного объекта". Мой проект влюбить другого в меня – это и есть сама моя любовь. Я люблю другого тем сильнее, чем больше хочу, чтобы он любил меня. "Каждый хочет, чтобы другой его любил, не отдавая себе отчета в том, что любить – значит хотеть быть любимым, и что тем самым, желая, чтобы другой меня любил, я хочу лишь, чтобы другой хотел заставить меня любить его".
Любовь – это как бы "игра зеркальных отражений", это "система бесконечных отсылок", стремление отразиться в другом, чтобы увидеть в нем признание и обоснование своего бытия. Мир зеркальных отражений невеществен, иллюзорен; легкое смещение зеркал способно разрушить игру отражений, развеять кажущуюся бесконечность глубины. Так же и любовь – постоянно подвержена опасности исчезновения. © , 2005 год. Психология любви. Сайт психолога об искусстве любви.
С древнейших времен проблема одиночества волновала выдающихся мыслителей человечества и играла значительную роль в развитии философской мысли. Философы разных эпох и народов пытались дать определение этому явлению, разобраться в его особенностях, найти пути и способы его преодоления либо обосновать его необходимость. Писатели и поэты, чье творчество было пронизано мотивами одиночества, пытались отыскать истоки этого явления, осмыслить его, но герои их произведений чаще всего становились «жертвами» одиночества, не сумев его побороть.
В западной философской традиции существует устойчивая интерпретационная модель одиночества, уходящая своими корнями еще в античность. Однако философия Востока, хотя и не столь явно, внесла не менее значительный вклад в осмысление данного феномена. Интерес европейских философов к восточному мировоззрению возник достаточно давно, однако в течение столетий Европа «не столько стремилась понять Восток в его своеобразии и принять его в его таковости, сколько желала обнаружить в нем подтверждение своим собственных открытий, дерзаний и устремлений» . Вместе с тем, восточная философия всегда имела и в настоящий момент имеет собственный взгляд на мир - в том числе и на проблемы одиночества,- который далеко не всегда и не во всем совпадает с аналогичным западным мировоззрением. Таким образом, исторический ретроспективный анализ одиночества только с позиций западной философии как это происходит в подавляющем большинстве современных философских работ, посвященных данному феномену,- на наш взгляд является недостаточным для формирования целостного представления о столь сложном полисемантическом явлении. В современном мире, когда происходит взаимодействие и взаимопроникновение таких разных по своей природе философских мировосприятий, как западное и восточное, невозможно составить объективное представление об одиночестве без восточного взгляда, который оказался незаслуженно обделен вниманием в современной научной и критической литературе.
В сущности, сама восточная философия, о которой пойдет речь ниже, не является чем-то целостным и монолитным, поскольку исторически направленность философской мысли Востока во многом зависела от национальных, идеологических, политических, а главное - религиозных факторов. Точно так же и видение одиночества в индийской, китайской и японской философии и культуре не совпадает, имеет много самобытных, индивидуальных черт.
Перед тем, как рассматривать одиночество в его национальных, этнических и религиозных аспектах, оказавших влияние на формирование соответствующей философской традиции, необходимо дать общую характеристику восточного мировосприятия. Базисной интенцией восточного (в первую очередь, китайского) философского мышления была идея органического единства человека и мира, напоминающая чем-то античное представление о гармоническом единстве человека с природой. Одиночество рассматривалось как неестественное, неприсущее человеку от природы состояние - об этом свидетельствует вьетнамская пословица: «лучше умереть со всеми, чем жить в одиночестве» . Вместе с тем, одиночество как социальная реалия существовало и требовало своего осмысления в раках восточных философских учений.
В Индии отдельные интерпретационные модели одиночества обнаруживаются в брахманизме, индуизме и буддизме. Изначально одиночество не было свойственно древнему индийскому обществу, т.к. оно характеризовалось культом семьи: доблести и подвиги, как и проступки, отдельного члена семьи распространялись на всю семью в целом. Семья была неделима, как бы многочисленна она ни была. Вместе с тем, именно в рамках этой модели зародилось противопоставление между своими - членами семьи и чужими. Этот принцип социального устройства лег в основу создания кастового социального расслоения, которое окончательно поделило и дезинтегрировало индийское общество. Социальный строй Индии был основан на религиозных принципах и развивался в пределах, установленных религией, поэтому и индийская философия могла развиваться только в пределах, предусмотренных религией, с явным отпечатком религиозного мировоззрения индусов. Именно поэтому на понимание феномена одиночества в индийской философии наложила отпечаток религия брахманизма, а позже индуизма.
Брахманизм предполагал истинность бытия заключенной «только в единой всеобщей сущности, в мировой душе, бесконечной и неизменной, Браме; в нем был центр и источник бытия; вне Брамы были только иллюзия, обман, заблуждение, и всякое отдельное существование было лишено всякого самостоятельного значения» . В соответствии с брахманской философией, душа человека являлась частичкой мировой души и была тождественна ей. Достижением нравственного и духовного идеала являлось соединение с Брамой, и это достигалось путем умерщвления духовного через физическое - разного рода лишений и истязаний плоти - ради достижения Брамы. Такое мировоззрение породило в среде брахманов явление отшельничества, которое понималось как освобождение через страдание.
Постепенно уединение от жизни, отшельничество, стало популярным и в других кастах, и у этого явления были свои причины: любые нарушения религиозных норм и правил приводили к риску перерождения души в низшую касту, поэтому ритуалы и предписания строжайшим образом соблюдались и принималась с кротостью, несмотря на тяжелейшие условия жизни. Отсюда возникли философские воззрения на мир, как на бездну, преисполненную страданий и зла, а следовательно, стремление покинуть этот мир.
В мировой истории аскетизм получил наибольшее распространение и популярность именно в Индии: самоумерщвление было признано там высшим идеалом. Особое тяготение к нему возникло в среде кшатриев: в бегстве от мира они находили цель более ясную и конкретную, нежели слияние с Божеством, о котором учили брахманы. Статус отшельника стал священным в глазах обычных людей. Отшельническое движение индусов во многом стало ответной реакцией на брахманизм с его догмами и условностями. Отшельники делились на тех, кто истязает свою плоть, уничтожая бренное во имя духовного, и тех, кто ищет покой в созерцании и бездействии духа и тела. В этот период получили свое развитие разные школы йоги, основывающиеся на достижении разных форм мистического единения с Абсолютом посредством отрешения от телесной оболочки. Считалось, что всяческие изощренные мучения должны обеспечить блаженство по смерти и хорошее воплощение в будущем. На высшей ступени умерщвления плоти аскет должен был оставить лесное поселение и превратиться в странника, который бродит до того момента, пока, обессилев, не повалится на землю и не испустит дух. В соответствии с Законами Ману аскет должен навсегда поставить себя выше жизни: «Выйдя из дома, отшельник, снабженный средствами очищения, пусть бродит, равнодушный к накопленным предметам желания. Ради достижения успеха следует бродить одному, без спутников: поняв, что успех зависит от одного его, он достигает [успеха] и не покидается им. Ему не следует иметь огонь и жилище; он может ходить в деревню за пищей, сохраняя молчание, равнодушный ко всему, твердый в намерениях, сосредоточенный в мыслях. Глиняная чаша, корни дерева, лохмотья, одиночество и одинаковое отношение ко всему - таков признак освобожденного» .
Образ жизни отшельников был разным: одни полностью изолировали себя от любых контактов с миром; другие одиночество чередовали с беседами о пути к истине с другими отшельниками; третьи жили общинами со строго установленными правилами общежития. Несмотря на разные формы и методы уединения, цель у отшельников была одна: в одиночестве, разорвав связь с миром, человек, подвергаясь страданиям и лишениям, подготавливал себе блаженство в следующей жизни. Стремление к счастью в этой и загробной жизни заключалось в приучении души относиться бесстрастно к явлениям жизни, таким образом освободив ее от дальнейших реинкарнаций.
Специфическим ответом на догматичность брахманизма стал и буддизм, который признавал людей равными друг другу и указывал единый, общий для всех путь к достижению счастья. Явившись изначально модифицированной формой брахманизма, буддизм, тем не менее, вывел целый ряд индивидуальных философских установок и принципов, в том числе и в понимании одиночества.
В буддизме сосуществуют два представления об одиночестве: одиночество внешнее как процесс достижения нирваны и одиночество как состояние. Основу буддизма составляет принцип абсолютной автономности личности и необходимость в освобождении от пут реальности, который совершенно гармонично уживается с противоположным ему принципом неотделимости личности от окружающего мира.
Первый из перечисленных принципов исходит из положения, что все связи, в том числе социальные,- это зло, так что необходимо отрешиться от всех оков реальности, от общества. Состояние совершенной самоуглубленности и отрыва от внешних факторов представляет собой эквивалент угашения желаний, т.е. освобождение (нирвана). Нирвана есть избавление от вечного круговорота превращений, т.е. избавление от мира страданий. Это достигается через медитацию, которая предполагает полный отрыв от любого внешнего фактора, физическое состояние отстраненности, одиночества. Результатом медитации является переживание целостности бытия - неразличения внутреннего и внешнего, чувствительной и рассудочной форм познания.
Глубокой асоциальности первого принципа буддизма противопоставляется принцип неотделимости индивидуума и мира, гармонии личности и природы, в котором отсутствует конфликт между субъектом и объектом, человеком и космосом, а также между человеком и обществом. Таким образом, асоциальность буддизма является не следствием конфликта между личностью и социумом, а волевым актом отрешения от окружающего и окружающих, а следовательно, к устранению от процесса совершенствования окружающего мира.
Это не единственная дихотомия буддизма в осмыслении одиночества: парадоксально и то, что «путь к состоянию Будды проходит через уединение и одиночество, но, как только вы станете Буддой, вы уже не можете снова быть одни. Живые существа всего времени и пространства будут взывать к вам о помощи и благословениях» .
Аскетизм и отшельничество как способ ухода от мира, присущие брахманизму и индуизму, в буддизме заменялись иным способом достижения просветления: Будда пришел к убеждению в совершенной бесполезности самоистязания как болезненного, неблагородного и бесцельного. Оно, как и потворство страстям, воспринималось как слабость и препятствие на пути ухода от мира. Буддизм принял срединный путь избежания этих двух крайностей: посредством очищения тела воздержанием, усовершенствования ума смирением и укрепления сердца одиночеством, путем постоянных сосредоточенных размышлений. «Дхарма Будды - это широкое шоссе, но им почти никто не пользуется. Будучи живым существом, вы держитесь узких улиц, поскольку так же поступают все остальные. Вас утешает вид других людей. Вы не встретите много людей на широком пути, а к тому времени, когда вы дойдете до места своего назначения - состояния Будды, - вы останетесь в одиночестве. Рядом с вами не будет друга, который мог бы помочь вам, не будет врага, с которым вы могли бы поссориться. Таков одинокий путь к состоянию Будды» .
Искажение нравственного учения Будды в последующие века, придание ему статуса религии со всеми атрибутами и канонами богослужения, а также разделение буддизма на две крупные формы - северный (махаяна) и южный (хинаяна или тхеравада) буддизм - привело к искажению изначальных буддистских представлений о феномене одиночества. Это привело к возникновению синкретичных форм осмысления одиночества в восточном обществе: на стыке ответвления буддизма дзен и синтоизма в Японии или буддийских представлении в комбинации с конфуцианским и даосским мировосприятием в Китае.
Китайская философская картина мира была обусловлена тем своеобразным положением, которое занимала страна в череде великих культурных центров мира: «Ни одна из них не была в такой степени отрезана от прочего цивилизованного мира, как Китай. Контакты с другими цивилизациями были случайными и мимолетными и оказали ничтожное влияние на историю Китая» . Китайская философская традиция иначе, в сравнении с индийской, интерпретировала феномен одиночества. В типичном китайском воззрении на общество главным было «целое», его устои и порядок; личность рассматривалась лишь как частичка социума, от нее требовалось лишь подчинение.
«Золотым веком» китайской философии был период с VI по III вв. до н.э. В это время возникли конфуцианство, даосизм, моизм и другие философские учения. Родоначальники двух основных течений китайской философии - Конфуций и Лао-цзы - ввели в свои учения категорию «Дао»: пути как мерила должного индивидуального поведения.
В главном даосском трактате «Дао дэ цзин» Дао представлено в двух основных ипостасях:
- - одинокое, отделенное от всего, постоянное, бездеятельное, пребывающее в покое, недоступное восприятию и словесно-понятийному выражению, безымянное, порождающее небытие, дающее начало Небу и Земле;
- - всеохватное, всепроникающее, изменяющееся вместе с миром, действующее, доступное восприятию и познанию, порождающее бытие .
Согласно учению Лао-цзы, познание Высшего Начала - это не исследование и не внешнее наблюдение. Мудрец созерцает Дао, не выходя из дома, не соприкасаясь с миром и «другими», он видит естественное Дао, достичь которое можно посредством самоуглубления и духовного очищения. Человека, идущего по пути Дао, ждет обретение вечного покоя. Человек, обретший Дао, духовно соединившийся с ним, стоит выше земных желаний, он сохраняет покой в своей душе, возвышаясь надо всем. В этом - его божественность. Следовательно, «человек должен жить в уединении и чуждаться славы» .
Человечество несчастно, поскольку отпало от Истины, заменив естественный закон Дао своими измышлениями. Для достижения Дао «некоторые последователи Лао-цзы уходили в горы и жили там, погруженные в созерцание и безмолвие. Они восседали неподвижно среди скал многие годы; лица их омывал дождь, ветер расчесывал волосы. Их руки покоились на груди, обвитые травами и цветами, растущими прямо на их теле» .
Чжуан Чжоу, последователь учения Лао-цзы, отмечал в «Чжуан-цзы», что конечная цель человеческого существования заключается в обретении абсолютной свободы для субъективного духа, так называемого «беззаботного скитания». С точки зрения «Чжуан-цзы», страдание людей и отсутствие «свободы» возникли в связи с затруднениями, которые вызывают существующие в реальном мире противоречия в виде различий между истинным и ложным, переходов от знатности к низкому положению и наоборот; изменения в положении богатых и бедных, между жизнью и смертью, между счастьем и бедой и т. д. вызываются ограничениями, накладываемыми различными условиями, при которых люди ищут для себя опору, на что-то надеются, чего-то добиваются.
Достигнув полной отрешенности от других людей и от мира, личность избавляется от мирских представлений об истинном и ложном, от желаний, ощущений и мыслей. Следовательно, превратятся в ничто и исчезнут все существующие в реальном мире противоречия и различия, связанные с истинным и ложным, высоким и низким положением, бедностью и богатством, жизнью и смертью, долголетием и преждевременной смертью, большим и малым, красивым и безобразным,- т.е. будет достигнуто состояние, при котором все вещи и «Я» будут составлять одно целое. Таким образом, появится возможность перейти из всем известного реального мира, в котором приходится «чего-то ждать», в «страну, где ничего нет» и где «нет ожиданий», и там обрести абсолютную духовную свободу . Даосский мудрец ищет покоя и одиночества, но он вмещает в себя весь мир и кажется странным лишь тем, кто отворачивается от жизненной непосредственности в самих себе.
Если даосизм выдвигал идею следования естественности, то главной в конфуцианстве стала теория этической связи внутреннего и внешнего в человеческой жизни. Конфуция нельзя считать основателем религии в строгом смысле этого слова, поскольку вопросы веры занимали в его мировоззрении самое незначительное место. Учение Конфуция имело скорее философский, этический характер. Проблемы одиночества лишь отчасти коснулись его учения, поскольку согласно Конфуцию, все отношения в обществе должны строго регулироваться определенными нормами, призванными обеспечить неукоснительное подчинение младших старшим и подданных государю. Человек являлся неотъемлемой частью общества, в связи с чем в своем поведении он должен всегда руководствоваться сложным комплексом различных этических принципов. Если человек не выполняет своего долга перед обществом и Небом, не соблюдает установленные ритуалы, не выражает должной почтительности к вышестоящим и несправедлив к нижестоящим, то его карает освещенная Небом власть. В противном случае само Небо посылает наказание на все государство в целом. Поэтому каждый член общества должен строго следовать своему долгу, знать свое место в рамках системы и выполнять вытекающие из этого обязанности.
Одиночества для Конфуция было напрямую связано с отсутствием добродетели: «Добродетельный человек не остается одиноким, у него обязательно появятся близкие» . Конфуцианство настаивало на публичности морального действия: «Не делай людям того, чего не желаешь себе, и тогда и в государстве и в семье к тебе не будут чувствовать вражды» . Соблюдение церемониала, следование традициям, наличие добродетели и сосуществование с другими во благо обществу - в учении конфуцианства считались следованием Дао, что понималось Конфуцием не в отвлеченном смысле, как у Лао-цзы, а как синоним Верного пути: если человек освоил Дао, он выполнил свое предназначение. Если человек чувствовал себя одиноким - это предполагало, что он не следует Дао: «Есть люди, которые живут в уединении, чтобы укрепить свою волю, поступают в соответствии с долгом, чтобы распространить свое учение. Я слышал такие слова, но не видел таких людей» .
Проблеме одиночества в китайской культуре уделялось гораздо больше внимания в поэзии, нежели в философском и религиозном мировосприятии. Ярчайшими представителями китайской поэтической школы были Ли Бо, Ду Фу и Ван Вэй, в творчестве которых одиночество занимало центральное место. Китайская поэзия того периода видела в природе высшее выражение естественности, высшее проявление сути вещей. Единение поэта с природой, любование природой, изучение ее, предполагали достижение поэтом некоей высшей истины, чего поэт не мог бы достичь в общении с людьми. Именно поэтому он устраняется от всех, уходит от мира людей, пытаясь достичь гармонии с природой. Поэт-отшельник пребывает в молчании и одинок даже среди людей. Следуя религиозной и философской традиции, китайская поэзия дополняла ее своим видением одиночества: поэт - это истинный носитель Дао, он отвергает признаки и атрибуты кажущегося земного благополучия, поэтому он всегда одинок .
Японская философская поэзия интерпретировала состояние одиночества человека в определенном сходстве с китайскими философскими поэтическими представлениями. Разлука - с родными местами, друзьями, возлюбленными и родственниками - как физическое перемещение в пространстве ведет к изменению душевного статуса поэта и служит источником лирического драматизма. Одиночество и изоляция служат основным условием для проявления лирического чувства, являются важнейшим условием для достижения свободы от материальных и эмоциональных забот. Отсюда - стремление к одиночеству как способу обретения утраченной гармонии с миром.
Японская философия представляла собой синкретизм религиозных, философско-этических и культурных мировоззрений, соединяя в себе черты синтоизма, дзэн-буддизма, конфуцианства и даосизма, сложное переплетение которых оказало непосредственное влияние на формирование японского философского мировосприятия. Одной из наиболее распространенных религиозных форм в Японии является дзэн-буддизм, который принадлежит к ветви махаяна и является более примитивной формой буддизма, имеющей очень мало сходства с ранним буддизмом: «ее доктрины в теоретическом виде могут показаться спекулятивным мистицизмом, но они представлены таким образом, что только посвященные, посредством долгой тренировки действительно достигшие прозрения на этом пути, могут понять их подлинный смысл» . Японский дзэн-буддизм - это адаптированная форма китайского чань-буддизма. Именно в дзэн-буддизме прослеживаются основы понимания феномена одиночества в истории японской философии. Согласно чаньской традиции, легендарный буддийский патриарх Бодхидхарма, принесший учение чань-буддизма в Китай, в течение девяти лет занимался сидячей медитацией, молча созерцая каменную стену своей пещеры, где он обитал в одиночестве . Именно посредством полного одиночества в медитации можно достичь просветления, которое является продуктом праджни (понимания высшего порядка), «порожденной волей, которая желает видеть себя и быть в себе. Вот почему Будда так настаивал на необходимости личного опыта, а как средство достижения последнего рекомендовал медитацию в одиночестве» . Одиночество здесь понимается именно в буддийском смысле слова как «непривязанность и способность видеть, что все происходит само собой, в чудесной спонтанности. С этим настроением связано чувство глубокого, бесконечного покоя» , высшая степень просветления, обретаемого дзэн-буддистом, которой является сатори (японский аналог Нирваны).
Религиозный опыт дзэн, основанный на догмах конфуцианства и синтоизма, послужил идейным источником для возникновения кодекса чести воина - Бусидо, в котором можно отыскать черты изначального духа японской нации, ее философии и культуры. Конфуцианство стало морально-этической основой бусидо; буддизм воспитал у последователей бусидо равнодушие к смерти; однако подлинное основание бусидо покоилось на синтоистских культах природы и предков, взрастивших у японцев особое чувство принадлежности к японской нации. Мораль синтоизма состоит в том, чтобы познать самого себя, заглянуть в глубь своей души и ощутить божество (ками), которое там живет. Согласно синтоизму, человеку надо слушаться веления этого божества, ибо оно представляет собой зов родителей и всех предков от поколения к поколению, которым японец обязан самим своим существованием. Вместе с тем, дзэн-буддизм учил освобождаться от «привязанности» к феноменальному миру и возвращению к неразличению добра и зла, что приводило к отрешенности от социально-этических обязанностей.
В этой сложной совокупности моральных и онтологических воззрений произрастало философское осмысление феномена одиночества в японской культуре. Вся жизнь воина состояла из борьбы и самосовершенствования, поскольку самурай - это тип личности, образ жизни, способ взаимодействия с окружающей реальностью. Последователь бусидо должен был стать человеком без собственного «Я», стремящимся к уничтожению своего «Я», т.е. существом высшего порядка. Верность и готовность выполнить любой приказ господина становились определяющими качествами для самурая: его жизнь и смерть были подчинены только закону чести и самурайского долга, чувства обычного человека не имели для него никакого значения. Философские мировоззрения самураев во многом схожи с представлениями о мире китайских поэтов: воин одинок в этом мире, с которым его связывает только господин и долг служения ему, и одиночество ведет к размышлению, самопознанию и отрыву от этого мира . Отсюда - презрение к жизни и отсутствие боязни смерти в самурайской философии. Поэтому «…Путь Самурая - это смерть. …Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к смерти и сможешь жить так, словно твое тело уже умерло, ты станешь подлинным самураем» .
Традиционность и некоторая статичность философии Востока в конце XIX века была нарушена экспансией западной философской мысли, что привело к формированию взглядов на мир, сочетающих традиционные восточные представления коллективности с индивидуалистической западной философией. В ХХ веке в определенных направлениях восточной философской мысли, в частности, в сектантских течениях и школах, трансформировавших традиционные представления буддийской и индуистской философии, произошло переосмысление одиночества.
Проникновение западной философской мысли в сознание восточных народов привела к формированию синкретичных философских воззрений, одним из которых стало учение Ошо. Основав свою философскую концепцию на буддизме, Бхагаван Шри Раджниш дискутировал с ортодоксальными религиями и подвергал сомнению традиционные верования, пытаясь дать новый взгляд на межличностные отношения, на место и роль человека в мире, в том числе и на феномен одиночества.
Он разделял два типа одиночества: loneliness («одиночество» в смысле покинутости) и aloneness («одиночество» в смысле самодостаточности). Одиночество как покинутость - это негативное состояние отрыва от других в то время, когда личность жаждет контакта с другими, т.е. чувство ненужности и брошенности. Одиночество как самодостаточность - это позитивная готовность действовать самостоятельно, опираясь на свои собственные силы, «радость бытия самим собой. Это радость того, что у вас есть собственное пространство, свой космос» .
Абсолютное одиночество приводит, по мнению Ошо, к отмиранию эго, к ликвидации собственного «Я», поскольку эго не может пребывать в одиночестве. Наличие достаточного мужества, чтобы остаться одиноким, приводит к состоянию человека «без-эго». Уничтожая в себе эго, человек уподобляется семени, в котором заложено многое, но, чтобы выросло растение, необходимо, чтобы семя разрушилось: «Эго - это семя, потенциальная возможность. Если оно разрушается, рождается Божественное. Это Божественное не является ни «мной», ни «тобой» - оно едино. Через одиночество вы приходите к единому» .
Еще одно восточное сектантское мировоззрение, предлагающее свой ответ на проблему одиночества,- это учение Алкион. Джидду Кришнамурти основатель этого учения - также разделял одиночество на два вида: внешнее и внутренне. Первый тип - всего лишь видимость одиночества, оболочка, которую человек накидывает на себя для более быстрого и легкого пути к истине. Кришнамурти отвергает этот первый тип, опровергая правильность достижения истины через аскетизм и уединение: «измученный, сломленный ум, ум, который хочет бежать от всякой суеты, который отрекся от внешнего мира и сделался тупым из-за дисциплины и приспособлений, - такой ум, как бы долго он ни искал, найдет лишь то, что соответствует его собственным искажениям» . Он также отвергает фигуру авторитета, который ведет человека к постижению истины, поскольку без авторитета человек добивается второго типа одиночества - как способа самопознания и нахождения самого себя. «Когда вы не являетесь чьим бы то ни было последователем, вы чувствуете себя очень одиноким. Так будьте одиноким. Почему вы боитесь быть одиноким? Потому что вы оказываетесь лицом к лицу с самим собой, какой вы есть, и вы убеждаетесь, что вы пустой, глупый, тупой человек, исполненный чувства вины и тревоги, что вы мелкое, дрянное, несостоятельное существо, живущее «из вторых рук» . Отказ от авторитета, церемоний, ритуалов и догм означает оказаться в подлинном одиночестве - т.е. в конфликте с обществом,- только тогда человек может приблизиться к постижению беспредельной, неизмеримой реальности.
Рассмотрев основные восточные религиозно-философские концепции и учения, мы можем прийти к выводу, что для них одиночество не столько является феноменом и категорией, требующей философского осмысления, сколько выступает в роли средства постижения истины и достижения единения с природой, Богом, Абсолютом, способом вступления на Путь к истине, посредством самопознания и самосовершенствования. Вместе с тем, появление в ХХ столетии значительного числа новых учений, основанных на традиционных восточных религиозно-философских представлениях, эксплуатирующих идею мессианства и индивидуального спасения, но базирующихся на совершенно иных мировоззренческих принципах, стало следствием ускоренной динамики индустриальной и постиндустриальной эпохи, увлечения западной философией и отсутствия в традиционных восточных религиях ответа на насущные проблемы личности, такие как неуверенность в завтрашнем дне и чувство одиночества.
Чем является для человека одиночество: наказанием или освобождением? Что человек должен чувствовать, находясь в одиночестве? Как часто нужно оставаться наедине с собой? Чем заняться, когда ты чувствуешь себя одиноким? И самое главное, существует ли одиночество вообще? Поиску ответов на эти вопросы и будет посвящено данное рассуждение.
Человек по своей природе социальной существо. Еще первобытные люди поняли, чтоб объединяясь друг с другом, они становились гораздо сильнее. Толькой можно было завалить даже мамонта. Люди поняли, что сила человека в его способности общаться и договариваться. С тех пор как первые люди поняли это, все население земли пыталось построить жизнь в одном месте. Благодаря взаимопомощи они достигали некоторых успехов. Плюсом всего этого являлось так же то, что им больше не приходилось сидеть в одиночку в своей пещере. Они сидели всем племенем и каждый имел возможность общаться с товарищем. Однако была ли у них возможность почувствовать одиночество? Скорее всего нет. По моему мнению, чувство одиночества было незнакомо древним людям, а появилось только с развитием цивилизации, когда люди построили вокруг своих жилищ стены и отгородились от внешнего мира и друг друга. Наши предки были единым организмом, в котором каждый выполнял какаю то роль и мог рассчитывать на поддержку. Так же люди были едины с окружающим миром, что подтверждается многими легендами и мифами, когда даже духи были частью природы и их самих. С развитием государства и построения каменный городов люди впервые поняли, что значит быть одному. И вероятно, они испугались этого чувства. Люди придумали религию, чтоб говоря с Богом не чувствовать себя таким одиноким. Даже когда Бог им не отвечал, они объединялись в группы верующих в одно и тоже и так появилась церковь. Разумеется, что это не единственная причина возникновения религии.
Что же происходит в современном мире в развитых странах, где почти каждый человек живет в своей коробке из бетона? У многих людей не осталось даже религии, к которой они могут обратиться, чувствуя себя одиноким. По-моему, мнению, многие люди хоть и жалуются на то, что они одиноки, ничего не делают, чтобы этого избежать. Современные люди при помощи техники максимально упростили себе жизнь, и тем самым подавили в себе потребность в человеческом общении. Компьютер и телевизор заменили реального собеседника, и даже телефон является бездушным посредником для общения на расстоянии. Мне кажется люди все-таки остро чувствуют неполноценность такого общения, не могут выйти из своих клеток. Скорее всего беда в том, что люди с возрастом разучились общаться, просить помощи и доверять друг другу. Они чаще всего даже не пытаются общаться в реальной жизни. Создается иллюзия, что они не одни, оставаясь в полном одиночестве.
Однако, все ли так плохо, когда ты один? В современном мире стоит только выйти на улицу, как встречаешь сотни тысяч людей ежедневно. Люди находятся везде с раннего утра и до позднего вечера. Сложно найти место уединения на улице крупного города. Конечно для крайнего севера с очень низкой плотностью населения проблема одиночества заключается в другом и лежит на уровне первобытного общества, когда люди объединялись чтобы выжить. Но, например, огромный мегаполис Новосибирск с населением более миллиона жителей, не может похвастаться этим. В каждодневной суете и быстром темпе жителей человек устает от людей даже находясь с ними в общественном транспорте, когда едет домой в час пик. Приходя наконец в свою квартиру, он чувствует облегчение, что сегодня больше не придется видеть так много людей. Человеку необходимо оставаться одному, чтобы собраться с многочисленными мыслями и проблемами, которые накопились за день. И чаще всего проблемы современного человека, это только его проблемы. От окружающих ему может понадобиться только моральная поддержка и умение выслушать. Таким образом получается, что для современного человека возможность остаться в одиночестве это спасение от сумасшедшего потока информации, получаемого ежедневно из разных источников. Однако для первобытного человека, возможно, это было испытанием, так как угнетало его социальную потребность.
Другим вопросом является определение является ли нахождение в одиночестве и чувство одиночества тождественными. Как уже говорилось человек в большом потоке людей находится наедине с собой. Часто мы не замечаем того, что происходит вокруг потому что сосредоточенны на своих проблемах. Иногда мы ищем в толпе какого-нибудь знакомого, чтоб разделить с ним поход по магазинам или поездку в общественном транспорте. Так не является ли это признаком того, что человека чувствуя одиночество пытается восполнить нехватку общения? Вполне вероятно, что это так. Значит человек может быть одинок, находясь вместе с большим количеством людей.
С другой стороны, так называемые интроверты могут прекрасно себя чувствовать, проводя все свободное время дома. Они являются сами для себя источником вдохновения и самопонимания, что не нуждаются в обществе других. Многие философы высказывали предположение о том, что люди бояться одиночества, потому что бояться своих мыслей. Однако люди, которые научились правильно управлять своим разумом, используют это время себе на пользу.
Чтобы побыть одному некоторые современные люди удаляются в малообитаемые нетронутые уголки земли. Я считаю, что такая форма одиночества сравнима с состоянием первых людей, когда они были едины с природой и самими собой. Отчуждение не сравнимо с одиночеством, потому что оно является добровольным. Человек сам осознает, что ему необходимо побыть одному, и это ему даже на пользу.
Возвращаясь к вопросу, почему многие современные люди утратили индивидуальность и разучились быть одни. Ярким примером этого является попытки построить коммунизм и социализм в некоторых странах. Давление власти заставляло людей забывать о собственных интересах и идти на поводу у общества. Возможно именно тогда, люди больше всего впервые хотели остаться одни наедине со своими мыслями, но этому мешало даже их жилье коммунального типа. Сейчас, когда от коммунизма ничего не осталось, люди со всех сил пытаются уединиться, приобретая собственные квартир, в которых их мысли будут принадлежать только им. Конечно, наши мысли - это то, что никто у нас не отнимет, но на них можно влиять, заставляя человека думать определенным образом.
Итак, подводя итог рассуждению об одиночестве, можно предположить, что понимание этого чувства менялось у человека с ходом истории. Частично оно сам заставило себя быть одинокими, уединяясь в каменных и бетонных домах. Так же смысл одиночества меняется в зависимости от эпохи, в которой живет человек. Он может заключаться как в спасении человека от суеты проходящих дней и людей и в тяжелом испытании, которое заключается в ограничении природной потребности человека в общении с себе подобными. Сущность уединения заключается в добровольном отходе от общества и преследует цель единения с природой и окружающим миром для упорядочивания своих мыслей и чувств. Чаще всего одиночество существует в головах людей, так как всегда можно найти человека, который так же испытывает потребность в общении. Как и про любое человеческое состояние, про одиночество следует помнить то, что оно является абсолютно нормальным до тех пор, пока человеку в нем комфортно. Я бы определила одиночество, как состояние, при котором лучшим собеседником для человека является он сам.
Список литературы:
- Воскобойников А. Э.Рашидова Т.Р. Понятие « Одиночество» сквозь призму философских категорий/ Знание. Понимание. Умение. № 2 / 2010.С.201.
- Корнющенко-Ермолаева Н. С. Одиночество и формы отчуждения человека в современном мире/ Вестник Томского государственного университета. № 332 / 2010.
- Рыжакова Е. В. Одиночество как философская проблема/ Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. № 2 / том 17 / 2011. С.74.
- Юдич Е. А. Проблема одиночества в контексте философии /Известия Томского политехнического университета. № 6 / том 318 / 2011.
- ПОДХОД
- ТЕОРИЯ
- ОДИНОЧЕСТВО
- ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА
- ОПЫТ ОДИНОЧЕСТВА
- ЖИЗНЕННЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
- ФЕНОМЕН
Рассматриваются феноменологический и экзистенциальный подходы к изучению проблемы одиночества, сформулированные в работах западных исследователей, а также опыт российской национальной философии в осмыслении данной проблемы. Сделан вывод о том, что проблема одиночества неоднозначна, но если она рассматривается в глобальном плане, то нужно с ним бороться,стараться преодолевать его.
- Дифференциально-антропологический аспект одиночества
И Бог шагнул в пустоту. И Он поглядел вокруг и сказал - Я одинок. Сотворю себе мир
Джонсон Дж. У.
Свою работу я писала, основываясь на научную статью Е.А.Юдич «Проблема одиночества в контексте философии» из журнала «Известия Томского политехнического университета».
Основную часть своей жизни мы находимся среди окружения. Любому нужно делиться с кем-то своими переживаниями, интересными событиям и т.д. Возникает вопрос: почему же среди большого количества людей человек может чувствовать себя одиноко?
Кто же такой одинокий человек? Это человек, находящийся один. Может и общаясь каждый день со множеством людей, он все равно будет чувствовать себя одиноким
В этом и состоит главная проблема, которую ни один человек так и не смог понять до конца. Мы растрачиваем свои силы на поиски людей, с которыми нам было бы удобно и комфортно, хотим, чтобы нас понимали, стремимся быть в окружении, а следовательно постоянно стремимся, хоть и на подсознательном уровне, но не быть одинокими. Не всегда большое количество окружения является показателем того, что человек не один. Рано или поздно он начнет осознавать это и все начнется по второму кругу. Начнется меняться окружение, все новые и новые лица, но стоит ли все это таких потраченных сил. Конечно, очень большое счастье найти такого человека. С другой стороны может быть просто нужно самому совершенствоваться, стараться быть интересным человеком, развиваться и тогда к тебе потянутся люди, захотят быть с тобой и принимать тебя со всеми твоими достоинствами и недостатками. А может остепениться и встретится именно тот человек, который будет родственной душой и тогда не понадобится тратить столько сил на бесполезное общение. В любом случае проблема остается не разрешенной.
В современном обществе проблема одиночества является очень актуальной. Происходит очень много изменений, которые кардинально меняют жизнь людей, а именно: грандиозные достижения в области науки и техники, нано технологии, появление информационного общества. Но зачастую все эти изменения не всегда положительно влияют на отдельного человека. Многим людям очень тяжело адаптироваться в новой среде. Индивид должен чувствовать ощущение принадлежности к обществу, а лишаясь этого, становится одиноким. Самое страшное, что люди становятся одинокими среди людей. Все это может привести к проблемам со здоровьем, нервным срывам, депрессиям. В данной ситуации человек прибегает к различным формам, для того чтобы не оставаться одиноким: различные группировки, религиозные секты.
В статье Е.А.Юдич рассматриваются разные точки зрения на проблему одиночества.
Феноменологический подход говорит о том, что одиночество пимеет пагубное влияние, пускай оно и не разрушает всю систему, но все же вносит свои разлады в нее.
Экзистенциалисты связывают развитие жизненного мира человека с развитием и становлением осознанного отношения к собственному одиночеству: понимание одиночества определяет характер взаимоотношений с внешним миром.
Не одиночество, а бегство от одиночества делает человека несчастным, неудовлетворённым, слабым, сомневающимся. Таким образом присутствует общее в феноменологическом и экзистенциальном подходах: проблема одиночества связана с проблемой осознанности.
В русской философии феномен одиночества изучается на основе чистого мышления, на попытке охватить это явление мыслью. Например, Лосский описывает, прежде всего, общую картину мира, которая включает в себя и объясняет все явления и процессы, в том числе и феномен одиночества; тогда целью исследователя становится не «изобретение» новой теории одиночества, нового понимания проблемы одиночества, а раскрытие самой сути феномена.Кроме того, он, в отличие от западных коллег, подвергает более тщательному анализу третью составляющую феномена одиночества - Божественное начало (к первым двум составляющим относятся понятия личности и социума).
Я считаю, что в статье Е.А.Юдич очень хорошо показана проблема одиночества, но не даются попытки решения этой проблемы и не говорится о том, а стоит ли вообще бояться одиночества, может не всегда оно настолько и плохо, может, есть в этом и положительное. Я думаю, что есть. Одиночество дает время подумать о многих вещах, привести свои мысли в порядок. Одиночество нам необходимо, потому что сознание того, что ты один и никто тебя не понимает, дает необходимый всплеск эмоций. После этого последует обязательно последует интерес к чему-либо. Главное вовремя уловить это. Одиночество помогает нам сконцентрироваться на самом важном. Главное - научиться пользоваться этим правильно. Но есть и отрицательное: психологические расстройства, нервные срывы, ухудшение как физического так и духовного состояния человека. Тем не менее, люди живут в обществе и в любом случае взаимодействуют с ним, поэтому одиночество становится глобальной проблемой. Нужно бороться с одиночеством, если рассматривать его в широком смысле, т.к. оно очень негативно влияет на состояние людей и общества в целом. Универсального решения проблемы нет, все зависит от причины. Но в любом случае нужно стараться каждому человеку бороться с одиночеством, помогать людям адаптироваться, взаимодействовать друг с другом, бороться с эмоциональным напряжением, с психологическими травмами.
Проблема одиночества неоднозначна. Для кого-то это хорошо, для кого-то плохо. Ведь лишь в одиночестве человек снимает с себя все маски в которых он пребывает во время соприкосновений с обществом. В одиночестве все замирает, все несущественное отходит на задний план и на первый план выходят истинные желания и побуждения. Именно истинные, а не которые навязаны обществом и его социальными нормами. Я считаю, что если рассматривать одиночество в глобальном плане, оно имеет больше негативных последствий, чем позитивных. Нужно бороться с одиночеством, если оно становится постоянным и нормальным образом жизни. Нужно занимать активную позицию, быть интересным человеком, постоянно самосовершенствоваться и тогда и начнет исчезать такая проблема как одиночество.
Список литературы
- Пузанова Ж.В. Философия одиночества и одиночество философа // Вестник РУДН. Сер. Социология. - 2003. - № 4-5. -С. 47-58.
- Берк М. Одиночество убивает // Forbes Russia - новостной сайт о бизнесе, финансах, карьере и стиле жизни. 2009. URL: http://www.forbesrussia.ru/mneniya/idei/22679-odinochestvo-ubi-vaet (дата обращения: 14.02.2010).
- Садлер У., Джонсон Т. От одиночества - к аномии. Лабиринты одиночества: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и предисл. Н.Е. Покровского. - М.: Прогресс, 1989. - 624 с.
- Бубер М. Два образа веры: Пер. с нем. - М.: Республика, 1995.- 464 с.
- Лосский Н.О. История русской философии. - М.: Прогресс, 1994. - 460 с.
- Бердяев Н.А. Дух и реальность. - М.: Изд-во АСТ, 2007. -381 с.
- Карсавин Л.П. Путь православия. - М.: Изд-во АСТ, 2003. -557 с.
Ж.В. Пузанова
Кафедра социологии
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, 117198, Москва, Россия
Одиночество принадлежит к числу тех понятий, реальный жизненный смысл которых, казалось бы, отчетливо представляется даже обыденному сознанию. Но эта интуитивная ясность обманчива, ибо она скрывает сложное, подчас противоречивое философское содержание понятия, ускользающее от рационального описания.
Одиночество можно рассматривать как фундаментальный антипод самим основам человеческого общежития, гуманным межличностным отношениям и, в конечном счете, самой сущности человека. Еще Аристотель заметил, что человек вне общества либо бог, либо зверь. Разумеется, центробежные силы, вырывающие личность из присущего ей социального контекста и ставящие ее в положение «бога» или «зверя», связаны и с такими феноменами, как индивидуализм, эгоцентризм, изолированность, отчуждение и т.д. Но в итоге все эти разнопорядковые факторы, отражающие сложные процессы социального развития общества, приводят к единому результату – к устойчивому состоянию одиночества, связанному с переживанием личностью своей трагической «атомарности», затерянности и заброшенности в безбрежные и теряющие для нее смысл просторы социума. В отличие от объективно возникшей изолированности, которая субъективно может и не восприниматься таковой, одиночество фиксирует внутренний, рефлективный разлад человека с самим собой, сосредоточение на неполноценности своих отношений с миром «других» людей.
Одиночество относится к тем проблемам, которые преследуют человека на протяжении всей его истории. С недавних пор одиночество стали называть социальным бедствием и в настоящее время – это уже опасная болезнь, болезнь многоликая и коварная, вызывающая одновременно сострадание и протест.
Бесправие, нищета, голод, угнетение, войны – беды человечества. Их проявления, как правило, очевидны, а потому и борьба с ними принимает характер мощных движений протеста, объединяющих людей общей целью, возвышающих в человеке человеческое.
Иное дело одиночество. Чаще всего оно не афиширует свое наступление на личность. Однако, как замечают американские исследователи У.Снетдер и Т.Джонсон, «одиночество становится всепроникающим явлением в нашем обществе. Ярко выраженное одиночество – это главная проблема как в аспекте личного, так и общественного духовного благополучия» .
Чего же больше в одиночестве беды или вины человека? Кто он, жертва внешних обстоятельств, вызывающая искреннее сострадание, или эгоцентрик, совершивший преступление прежде всего по отношению к самому себе? Дать однозначный ответ на эти вопросы не просто, тем более что они не исчерпывают всех возможных альтернатив.
Тяжкий недуг одиночества всепроникающ и многолик. Наивно полагать, что ему подвержены лишь рефлектирующие субъекты, склонные к философствованию. Одиночество подчас обрушивается на вполне «благополучных» людей. Ни материальные блага, ни причастность к истеблишменту, ни внешне благополучное существование личности, воспринимающей западный образ жизни как данность, не в силах отвратить от нее рано или поздно наступающее одиночество, подводящее печальный итог всей прожитой жизни. Авторы сборника «Анатомия одиночества» справедливо отмечают, что многие люди испытывают наиболее мучительное состояние одиночества не в физической изолированности, а как раз в центре группы, в кругу семьи, и даже в обществе близких друзей .
Западные ученые уже более столетия пытаются исследовать феномен одиночества. В отечественной же науке проблема одиночества значительно актуализировалась только в последние годы. Наличие в российском обществе феномена одиночества признают многие специалисты, но сама проблема не становится яснее от простой констатации факта. По-прежнему эмоциональные оценки, бесспорные по своему пафосу, преобладают над строгим анализом, опирающемся на достижения мирового обществознания. Разумеется, нет основания абсолютизировать исследования западных ученых, но знание и использование различных подходов и методик, выработанных европейскими и американскими философами, социологами, психологами дает возможность начать разработку этой проблемы с уровня, соответствующего достижениям сегодняшнего дня.
Все исследователи сходятся в том, что одиночество в самом общем приближении связано с переживанием человеком его оторванности от сообщества людей, семьи, исторической реальности. Естественно, что под «оторванностью» понимается не физическая изолированность, а скорее нарушение контекста многогранных связей, объединяющих личность с ее социальным окружением.
Одиночество, в отличие от объективной изолированности человека, которая может быть добровольной и исполненной внутреннего смысла, отражает его тягостный разлад с обществом и самим собой, дисгармонию, страдание, кризис «Я».
Теоретическое и художественное осмысление одиночества имеет давние традиции. И было бы неверно связывать его исключительно с XX в, или с развитием капиталистического производства. Еще в ветхозаветной книге Екклезиаста приводятся слова, подтверждающие, что одиночество воспринималось людьми той эпохи как трагедия: «Человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; и всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством» (4:8). Драматизм утраты человеком связи с миром других людей пронизывает этот библейский текст, ставший практически первым отдаленным отголоском экзистенциалистского пессимизма.
С осознанием своей родовой связи с другими людьми, человек открывал для себя всю катастрофичность ее утраты или даже некоторого ослабления. Не всегда эта трагедия определялась как «одиночества» и представала во всей глубине общефилософского смысла, но она неизменно вплеталась в симфонию духовного развития человечества. Жизненно необходимое человеку общение, нередко обреталось как антитеза одиночеству – в мире веры.
Чувство одиночество и отчаяния сквозит в псалмах царя Давида: «Боже мой! Боже мой!. Для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего» (21:2). Это центральная тема всех псалмов, в строках которых кристаллизуются чувства, отчужденности человека и упование на всемогущего Бога.
Христианство, обращенное к сердцам униженных и оскорбленных, с самого начала восприняло и вобрало в себя чувство щемящего одиночества, превращенное в идейный нерв всего вероучения. Сам Христос предстает как подвижник, в своем нравственном всесовершенстве, стоящий недостижимо выше и учеников и толпы. Потому Иисус одинок как в пустыне, как и на шумных улицах Иерусалима. По сути, он одинок и в своей жертвенной смерти.
Мотивы глубокого земного одиночества явственно прослеживаются в сочинениях отцов церкви. У Августина, например, первородная греховность и смертность человека сами по себе определяют его одиночество перед лицом Бога, только стремясь к которому человек может преодолеть это пагубное состояние. Еще более отчетливо эта тенденция, подчеркивающая земную изолированность человека и, соответственно, абсолютизирующая его интимное общение с Богом проявилась в раннем протестантизме. Протестантизм не оставлял места для раскрытия внутреннего мира личности через общение с другими людьми. Признавалась значимость лишь одной формы общения – индивидуального, «диалога» с Богом. Ставший одним из главных формирующих факторов капиталистического сознания, протестантизм фактически освящал одиночество, которое, согласно его доктрине, не затрудняет, а, напротив, облегчает путь к истинной вере.
Глубокие корни философии одиночества во многом пронизывают современное видение человека и межличностных отношений. Речь идет не только о собственно философской рефлексии в узком смысле слова, но и о широком распространении устойчивых мотивов одиночества во всей современной западной культуре.
«Для художника драма одиночества представляет собой эпизод трагедии, в котором мы все играем и представление которой заканчивается только с нашим уходом в вечность», – пишет известный французский кинорежиссер Жан Ренуар . Именно искусство, с его повышенной восприимчивостью к социально-этическим и психологическим вопросам, остро реагирует на умерщвляющее гуманистические ценности влияние индивидуалистической философской позиции, приводящей художника к драме одиночества.
«Одиночество это столь же богатая, сколь и несуществующая тема, – продолжает Ж.Ренуар. Ведь одиночество – это пустота, населенная призраками, которые приходят из нашего прошлого». . «Призрачное» прошлое исподволь, но властно начинает формировать видение настоящего, причем в качестве отчужденной реальности. Эта иллюзорная реальность превращается в доминанту развития творческой индивидуальности художника. Воистину «мертвый тащит живого».
Современный американский философ, представитель, так называемого гуманистического радикализма, И.Иллич, воспевая язык молчания, пишет: «Объективное изучение способов передачи значений показало, что гораздо больше передается от одного человека к другому посредством молчания, чем словами... Грамматика молчания - искусство более сложное для изучения, чем грамматика звуков...Человек, который показывает нам, что он понимает ритм нашего молчания, много ближе нам, чем тот, кто думает, что он знает, как говорить» . Красноречивость «молчания», провозглашенная Илличем, абсолютизирует невербальные формы общения, наделяя их особым символическим смыслом. Однако философия «пустоты», какие бы аргументы ни выдвигались в ее обоснование, разъединяет людей, превращая их в самодовлеющие «мирки субъективности», между которыми нет сущностных связей. И тем не менее идея «нового общения» достаточно широко проникла и в искусство.
Американский эстетик К.Вудвард создал целую цепь далеко идущих рассуждений, исходным пунктом которых служило известное произведение американского композитора Джона Кейджа «4 минуты 33 секунды», представляющее собой соответствующее по длительности... гробовое молчание симфонического оркестра полного состава. Эстетика пустоты, молчания, небытия еще не так давно была сферой оживленных дискуссий в западной философии искусства, имеющей прямое отношение к области философии коммуникации. Искусство, отказывающееся от формы, стремилось к полному освобождению от власти «техники» и ее материальных носителей, якобы неизбежно встававших преградой на пути полного самораскрытия творческого Я художника. При этом подразумевалось, что возникнувшее в результате искусство без формы устанавливало особый уровень межличностного общения «коммуникации», столь желанный для отчужденных друг от друга людей.
К.Вудвард стремился всесторонне обосновать воинствующий иррационализм современного модернизма, пытаясь при этом облагородить его пространными рассуждениями об антибуржуазной направленности «философии молчания». Однако следует иметь в виду, что понятие «антибуржуазность» в словаре модернистов нередко употребляется как синоним антиматериальности. Таким образом «буржуазному» образу жизни и мышления противопоставлялся спиритуалистический идеализм, ведущий в глубину «экстрарационального общения», презирающий все материальное как таковое и не нарушающий, а усугубляющий затерянность человека в мире.
Западное искусство, прекрасно осознавая всю глубину и противоречивость феномена одиночества, как правило, не стремится дать ему нравственную и гражданственную оценку. Она вытесняется изощренной аналитичностью, поворачивающейся то крайне объективистскими, то столь же крайне субъективистскими гранями. Эта аналитичность подчас воплощается с исключительным мастерством, но мастерством отстраненным, о каких бы больных и острых проблемах личности ни шла речь. Попытки подобного аналитического проникновения в суть одиночества предпринимались неоднократно. И в ряду тех, кто достиг в этом значительных результатов, следует упомянуть имя выдающегося шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана.
Его фильмы, начиная со знаменитой «Земляничной поляны», ставшей классикой мирового кинематографа, и вплоть до одной из последних работ «Осенней сонаты», представляют собой художественную энциклопедию одиночества, некоммуникабельности, разорванности социальных связей, отчаяния, утраты надежды – «антижизни» в ее обыденных формах и проявлениях.
Подавляющее большинство фильмов Бергмана это строгие по форме, медленно разворачивающиеся философские притчи, наполненные скрытыми символами и ассоциациями. Число участников этих «тихих» трагедий, как правило, невелико. И даже тогда, когда одинокие человеческие монады оказываются вовлеченными в стремнину всеохватывающих событий, личность оказывается отчужденной от истории, точно так же, как она отчуждена от своего Я.
Искусство шведского кинорежиссера философично в том смысле, что оно претендует, и не без оснований, на воссоздание идейных и нравственных трагедий «несчастного сознания» личности XX века. Однако важнейший вопрос состоит в том, необходимо ли их преодолевать, или они трактуются в виде вечной и неизменной данности, требующей лишь аналитического подхода? Бергман отвечает таким образом: «Художник считает свою изолированность, свою субъективность, свой индивидуализм почти святыми. Так, в конце концов, все мы собираемся в одном большом загоне, где стоим и блеем о нашем одиночестве, не слушая друг друга и не понимая, что мы душим друг друга насмерть. Индивидуалисты смотрят пристально один другому в глаза, и все же отрицают существование друг друга. Мы блуждаем по кругу, настолько ограниченному нашими собственными заботами, что больше не можем отличить правды от фальши, гангстерских прихотей от чистейших идеалов» .
Глубокая обеспокоенность все более нарастающим отчуждением и одиночеством присуща многим западным мыслителям. Под этим углом зрения немалый интерес представляет «повесть-притча» (так определил ее жанр сам автор) «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» американского писателя Ричарда Баха.
Наполненное символикой и аллегориями произведение Р.Баха рассказывает о жизни стаи чаек, поселившейся на берегу океана. Но чайки Баха – существа необыкновенные. Они умеют думать и разговаривать, а законы их стаи весьма напоминают законы человеческого общества. По его мнению, особо тягостное чувство одиночества возникает тогда, когда безоглядный порыв, искреннее стремление помочь другим и сделать их жизнь лучше, наталкиваются на глухое презрение умудренной «здравыми соображениями» обывательской толпы. Главные события в истории чайки по имени Джонатан Ливингстон разворачиваются тогда, когда в изгнании он постигает высшее совершенство в искусстве полета. Теперь его окружают ученики, единомышленники. Но Джонатан Ливингстон вовсе не собирался стать властителем дум. Единственная его мечта состоит в том, чтобы научить изгнавшую его стаю красоте полета. И в этом также содержится важный смысл, вкладываемый Р.Бахом в уста своего героя.
Любое, даже самое замечательное и выдающееся достижение, по сути, безжизненно, если оно остается достоянием лишь того, кто его впервые обрел. Либо одиночество губит открытие истины, либо самозабвенное служение истине и людям придает силы, способные разомкнуть оковы вынужденного одиночества. И тогда слово правды превращается в действие. Эта альтернатива и выражает собственную позицию автора. Но нельзя не видеть ее подчеркнутой абстрактности, коль скоро Бах полагает, что существуют некие временные законы морали «вообще», безотносительно к ее социальной и конкретно-исторической обусловленности. Эта романтизированная иллюзия вовсе не безобидна, но важно проследить и общую направленность идейных поисков писателя. А они имеют своей целью разрушить апологию индивидуализма и одиночества, неотделимо вросшую в контекст современной западной культуры.
Эти гуманистические тенденции вовсе не единичны в литературно-художественной жизни Запада наших дней. Но не следует переоценивать их действенности, так как и игнорировать их. Более того, вера в абстрактный гуманизм, если она своими корнями связана со стремлением к демократическим идеалам, неизбежно «приземляется», соприкасаясь с социальными и политическими сторонами жизни, и требует от художника принятия отчетливо осознанных решений, пронизанных чувством общественной ответственности.
Глубоким чувством одиночества проникнуты произведения модного в настоящее время японского писателя Харуки Мураками. Мураками – космополит, хотя и пишущий по-японски, но о чувствах эндемично-западных: о травме отчуждения, антониониевской некоммуникабельности и фантомных болях, оставленных европейским индивидуализмом на память о пуповине, связывавшей когда-то человека с обществом себе подобных.
Солипсист Мураками живет в катакомбах чувственного одиночества, откуда «примерещилось» давно выгнало «есть» и «на самом деле». В его расшатанных нервах и витиеватых фантазиях читатель охотно находит нечто ориентально-экзотическое, «утонченно-японское». Соответствующую возрасту коллапсирующую эмоциональность не скрывает обычная меланхолия рассказчика. По интенсивности переживаний и их концентрации с Мураками способны соперничать разве что М.Пруст да латиноамериканские сериалы, естественно каждый по-своему .
Как уже отмечалось, теоретическое и художественное осмысление одиночества имеет давние традиции. Разработку же проблемы одиночества в рамках отдельной философской концепции можно отнести к XIX веку. Своеобразно преломленные мотивы протестантского одиночества стали одной из исходных точек развития философской концепции американских трансценденталистов XIX века, среди которых видную роль играл философ, писатель, натуралист Генри Дэвид Торо. Он более двух лет провел в собственноручно построенной хижине на берегу Уолденского пруда, близ городка Конкорд в Массачусетсе, вырабатывая свою философию добровольного уединения . Таким образом, Торо поставил эксперимент прославившийся позднее в XX веке. В его основе лежал философский принцип, разработанный мыслителями «Трансцендентального клуба» во главе с Ралфом Уолдом Эмерсоном, согласно которому бесконечное духовное богатство человеческой личности, которой достаточно лишь замкнуться в себе, выделиться из обывательского окружения, чтобы найти мощные силы, необходимые для возрождения в своей душе тяги к красоте, добру, совершенству.
Трансценденталисты первыми четко разграничили одиночество, как продукт «полного отчаяния» городской жизни, и уединение, необходимое творческой личности для концентрации ее внутренних духовных потенций, которые только и способны создать в душе человека защиту от цивилизации со всеми ее последствиями: усреднением личности, господством конкуренции и т.д. В те годы принцип уединения рассматривался романтиками и трансценденталистами скорее как средство самозащиты, подразумевая укрепление духовного потенциала личности, ее социальное и творческое совершенствование. С тех пор дихотомия одиночества и уединения прочно укрепилась в западной философско-социологической мысли.
Иную концепцию одиночества и уединения, характеризующуюся отсутствием оптимизма во взгляде на судьбу личности, выдвинул С.Кьеркегор. Согласно Кьеркегору, «одиночество» это замкнутый мир внутреннего самосознания, мир, принципиально не размыкаемый никем, кроме Бога. Непроницаемая сфера самосознания высвечивается трагическими всплескам отчаяния, устойчивая позиция «Я» сводится к вечному молчанию.
Хаотичный протест против мерзостей жизни имел, по мнению философа, лишь один исход - обретение веры. Под верой Кьеркегор понимает не традиционную, освященную церковью веру, а сугубо индивидуалистическое погружение в иррационалистический образ Бога. Только Бог может стать собеседником затерянного в мире человека. Главный тезис Кьеркегора можно представить так: верить в Бога абсурдно, вера претит разуму, но поэтому и надо верить, ибо и сам мир абсурден.
«Духовный человек» Кьеркегора, носитель разорванного сознания, не стремится подобно Торо покинуть мир людей. Его герою чужда сама мысль о робинзонаде, он просто не видит в ней никакой необходимости, так как с самого начала вовлечен в общество в качестве «постороннего». В работе с характерным названием «Несчастнейший» Кьеркегор сравнивал людей с «одинокими птицами в ночном безмолвии, собравшимися один-единственный раз, дабы проникнуться назидательным зрелищем ничтожества жизни, медлительности дня и бесконечной длительности времени» .
Традиция, восходящая к Кьеркегору, получила развитие в поздних трудах Э.Гуссерля и перешла в экзистенциализм. Однако проблема одиночества сама по себе никогда не была предметом теоретического внимания Гуссерля. Тем не менее, феноменологическая философия постоянно и наиболее последовательно обосновывала «монадичность» и «атомарность» индивидуального человеческого сознания, превращенное в универсальный субстанциональный принцип.
Гуссерль и не помышлял о роли «врачевателя» истерзанного духа романтического наблюдателя, столкнувшегося с реалиями XX века. Как теоретик, большую часть своей жизни он был весьма далек от проблем этики и переживаний всякого рода «экзистенциальных» состояний. Предмет его постоянного интереса состоял в другом, а именно в исследовании познавательных моделей освоения, а точнее, идеального конструирования мира, в раскрытии особых структур сознания, («феноменов»), определяющих место человека в мире, а в сущности, и сам этот мир.
И все же именно в рамках феноменологии, стремившейся к строгости философской теории, к всеобщему и необходимому рациональному синтезу, субъективизм и иррационализм достигли своего апогея, а одиночество приобрело «теоретическое» обоснование универсального принципа продуктивного сознания.
Основой, на которой возводилась философская концепция Гуссерля, являлось представление о сознании как непрерывном и нескончаемом потоке особым образом сконструированных переживаний, имеющих свои общезначимые законы и принципы, полностью изолированные от всего внешнего, в том числе и материального мира. Более того, даже саму мысль об апелляции к реальности Гуссерль называл «наивной» и решительно требовал очищения сознания от любых высказываний относительно того, что находится вне его. Этот процесс «очищения», отделения сознания от объективной реальности, получил наименование «редукции», важнейшей составной частью которой было понятие «эпохе», то есть воздержание от любых высказываний относительно внешнего мира путем сосредоточения исключительно на анализе «чистой» субъективности.
Серьезной проблемой, с которой столкнулась феноменология, пытавшаяся разработать «строгую» теорию «объективных» принципов абсолютного субъективизма, стала проблема одиночества человеческого «Я», получившая в истории философии наименование проблемы интерсубъективности, то есть возможности или невозможности теоретико-познавательного общения индивида с другими познающими субъектами, признания их существования вообще.
Противоречие, выводимое из феноменологических установок, состоит в том, что феноменология рано или поздно сталкивается с задачей «доказать» само существование других людей как равноценных с моим «Я» центров сознания. Парадоксальность такого положения объясняется тем, что субъективизм, какие бы «строгие» формы он ни принимал, исходит из одной реальности – реальности «Я». Все остальное так или иначе предстает в виде проекции, или трансценденции субъекта вовне. Таким образом, в рамках феноменологии еще можно доказать существование других людей как чисто физических, опредмеченных объектов, но, как только ставится вопрос о наличии у них сознания, сразу же возникают сложности теоретического характера и появляется опасность солипсизма, признания тотального одиночества субъекта во Вселенной.
Не только общетеоретические, но и более конкретные, «земные» взгляды Гуссерля на реалии общественной жизни были исполнены глубокого и в своем роде последовательного пессимизма, выраженного, в частности, «роковыми» вопросами, на которые философ не находил удовлетворительного ответа. «Чем же являются для меня другие люди, сам мир?» риторически спрашивал себя Гуссерль. И отвечал: «..всего лишь сконструированными феноменами, чем-то продуцируемым из меня самого. Ни при каких условиях не могу я достичь уровня описания бытия в его видении другими людьми, представляющимися мне не иначе как простыми физическими объектами Природы, которые существуют только в качестве продуктов трансценденции». Между трагическим в своей монадической замкнутости субъектом и миром «предметов» (в том числе и другими людьми), рассматривавшихся Гуссерлем исключительно в виде коррелята сознания – «как воспринятое представленное, взятое на веру предположение», возникала катастрофически непреодолимая преграда отчуждения и одиночества.
Весь макрокосм человеческого бытия, сконструированный Гуссерлем, превращался в универсальную модель изолированного индивидуального сознания. Соответственно этой модели получила наименование и философская дисциплина «эгология», погруженная в исследование сакраментального внутреннего мира субъекта. При этом философ недвусмысленно обозначил область приложения «эгологии»: «Совершенно невозможно представить, каким образом, с позиций редукции, другие Я но не просто как феномены внешней реальности, но именно как другие трансцендентальные Я могут быть возможными сами по себе и потому закономерными предметами феноменологической «эгологии», - писал он.
Итак, для феноменологии Гуссерля было неприемлемо рассмотрение сознания других людей в качестве столь же реального, как и собственное сознание. Признавая само существование «других», феноменология фактически отчуждала их от познающего субъекта, превращая в своеобразное собрание бесплотных метафизических теней.
Универсальная модель одиночества, раскрывшаяся в феноменологии Гуссерля, стала для многих философов XX века основой осмысления феноменов общественного бытия. Сам Гуссерль, несмотря на то, что круг его философских интересов лежал в иной плоскости, осознавал реальные последствия своих взглядов. Он оставлял проблему одиночества на периферии своего философского мышления, так как его не оставляло чувство, что предрасположенность философской системы к субъективизму свидетельствует не о ее силе, а о ее слабости. Но то, чего стремился избежать Гуссерль, то, что он пытался скрыть тем или иным образом, стало отправным пунктом для его последователей экзистенциальной ориентации, превративших трансцендентальное одиночество в символ своей веры. Наиболее наглядно подобная трансформация феноменологии в экзистенциальное осмысление проблемы одиночества произошла в творчестве крупнейшего французского философа и писателя Ж.П.Сартра.
Именно Сартру принадлежит ключевое для понимания экзистенциализма изречение: «Человек не есть то, что он есть; человек есть то, что он не есть». За внешней парадоксальностью этого суждения скрывается глубокий философский смысл, утверждающий всеобщую и фундаментальную неудовлетворенность человека миром, разлад с самим собой. Согласно этой формуле, человек постоянно стремится стать тем, «что он не есть», - выйти за пределы своего «Я», найти истину вне себя, разомкнуть сковывающие его рамки одиночества. Но реалии, находящиеся вне его, отрезвляюще действуют на этот порыв. И тогда, возвращаясь к себе, не найдя достойного общения в мире людей, человек не может понять, «что он есть» на самом деле. И потому его путь к себе, вернее, «в себя» всегда конфликтен, сопряжен с осмыслением одиночества как экзистенциональной ситуации бытия человека в мире.
В отличие от Гуссерля Сартр стремился решительно субъективировать мир. Он рассматривал мир как состоящий из «меня» и «другого». «Одним из свойств присутствия во мне другого есть объективность», - писал он в очерке «Экзистенциализм – это гуманизм». «Но другой становится для меня не только объектом, но одновременно перестраивает мой внутренний мир, все, что меня окружает. Другими словами, любой «другой» вмешивается в самое сокровенное для меня, вторгается в святая святых. В результате «принадлежащее» мне бежит от меня под непрошеным воздействием другого» .
Это тотальное бегство человека от человека и выражает понимание Сартром межличностных отношений. Вещи, будучи объектами («собственностью») моего мира, постоянно теряют для меня свою интимность, омертвляются, превращаются в предметы совместного владения. Появление «другого» – будь то случайный попутчик или сосед по столику в кафе, друг детства или член семьи незамедлительно превращает мой мир во враждебный мне, «украденный». Иначе говоря, появление другого человека и тем более общности людей («массы») есть, по Сартру, разрушение, кризис, опасность, конфликт. При этом любая форма коллективности изначально обречена на саморазрушение; отчуждение превращается в универсальный модус «бытия в мире».
В экзистенциализме одиночество личности становится принципом замкнутого антропологического универсума. Внутренняя изолированность человека – это основа любого индивидуального бытия как такового. Там, где личность начинает вступать во взаимоотношения с миром и другими людьми, человек неизбежно сталкивается с холодной, безжизненно-мертвой объективностью, превращающей все «внешнее» во «врага» субъективности, что в свою очередь ведет к ее омертвению, отчуждению, одиночеству. Согласно Сартру, человек становится таким, каким он был сформирован задачами, стоящими на его пути. Объекты являются немыми требованиями, и в «Я» нет ничего, кроме пассивного повиновения этим требованиям. Одиночество человека, затерянного в просторах чуждого ему социума, закономерно связывалось Сартром с немой пассивностью, потерей веры и надежды.
Поскольку взаимоотношения «меня» и «другого» постоянно конфликтны, то не может быть и речи о какой-либо общности индивидов. Признание множества субъектов не может быть ясно и отчетливо дано человеческому сознанию, утверждал Сартр.
Рассматривая самые тривиальные примеры «общности» людей, предоставляемые нам обыденным опытом, он доказывает, что солидарность с этой общностью всегда поверхностна, иллюзорна, тогда как ощущение одиночества глубинно, бытийно. Как бы человек не был вовлечен в переживание общности, он стремится разрушить ее, сохраняя одиночество своего «Я».
Наполненная субъективизмом и пессимизмом концепция Ж.П.Сартра естественным образом перекликается с философским содержанием произведений Альбера Камю. Исходя из твердого убеждения в абсурдности человеческого бытия, А.Камю провозгласил символом «человеческого состояния» античный миф о Сизифе, который был осужден богами на тяжкий и бессмысленный труд. Безграничное одиночество Сизифа становится подтверждением его силы и внутренней свободы. «Я покидаю Сизифа у подножия горы, – пишет Камю. От собственной ноши не отделаешься. Но Сизиф учит высшей верности, которая отрицает богов и поднимает обломки скал. Сизиф тоже признает, что все хорошо... Однако восхождение к вершине достаточно, дабы наполнить до краев сердце человека. Надо представлять себе Сизифа счастливым» .
Камю настаивает на том, что вера в абсурд становится реальным возмещением одиночества. Неверие в общность людей переросло в утверждение экзистенциальной свободы, достижимой лишь в редкостные мгновения прорыва сквозь абсурдность бытия и вхождения в мир «экзистенции». Для Камю это вхождение виделось в форме «бунта», но не как открытого социального протеста, а как порыва субъективного отчаяния, низводящего человека на грань самоубийства или толкающего личность за эту грань.
Камю создает и иную альтернативу сизифову отчаянию. Мифу о Сизифе он противопоставляет миф о Прометее, пожертвовавшем всем для блага людей. Одиночка Прометей воплощает трагизм мироздания, но трагизм, высвеченный любовью, жертвенностью, состраданием. «Что значит Прометей для современного человека? Без сомнения, можно сказать, что этот мятежник, восставший на богов, – образец человека наших дней и что этот протест, возникший тысячелетия назад в пустынях Скифии, завершается ныне потрясениями, каких еще не знала история» .
Согретая человеколюбием жертвенность Прометея предстает высшей добродетелью человеческого духа, возвышающей современного человека и возвращающей ему, находящемуся в индустриальном аду цивилизации, смысл бытия. Так рассуждает Камю, ставя «сизифов» и «прометеев» вопрос. Не стремясь произвести отрицание одиночества, Камю между тем трагически воспринимает его как каинову печать современного общества.
Сильное влияние на методологическое формирование трактовок одиночества оказали и продолжают оказывать произведения крупнейшего философа-экзистенциалиста Мартина М.Бубера. Его антропология исходит из представлений о человеке как «месте встречи» Бога с божественным в мире: «Так зародилась во мне мысль о преосуществлении Бога посредством человека: человек казался мне существом, в существовании которого пребывающий в своей истине абсолют может получить характер действительности» .
М.Бубер критикует и индивидуалистический метод, и коллективистские устремления в понимании сущности человека. К целостности человека, к человеку как таковому не прорываются ни индивидуализм, ни коллективизм. Индивидуализм видит человека в его соотнесенности с самим собой, коллективизм же вообще не видит человека, он рассматривает лишь «общество». В индивидуализме лицо человека искажено, в коллективизме оно закрыто.
В истории человеческого духа М.Бубер различает домашние эпохи и эпохи бездомности. В одних - человек живет в мире как в доме, в других - как в открытом поле. Если мироощущение «домашних эпох», по М.Буберу, характеризуется чувством защищенности и безопасности и связано с античностью и христианством Средних веков (космология Аристотеля, теология Ф.Аквинского), то наступление «эпохи бездомности» М.Бубер связывает с открытиями физики и математики эпохи Возрождения, хотя непосредственно под социальной и космической бездомностью имеется в виду эпоха, начавшаяся в конце XIX века. Ее основными чертами являются: ощущение потерянности в космическом и социальном времени, распад «старых органических форм» и возникновение новых (партии, профсоюзы и т.д.), господство политики и экономики, угроза со стороны техники.
Человеческая личность одновременно воспринимает себя как изгнанную из природы (подобно отвергнутому, нежелательному ребенку), так и в качестве личности, изолированной от остальных в бушующем мире людей. Современный индивидуализм М.Бубер считает первой реакцией духа на познание новой, зловещей ситуации, второй же – является современный коллективизм.
В индивидуалистических концепциях человек воспринимает свое изолированное бытие как личностное. Чтобы спасти себя от отчаяния, которым грозит его собственное одиночество, он находит выход в прославлении одиночества.
Коллективизм, по мнению М.Бубера, вытекает из крушения индивидуализма. В коллективизме личность пытается избежать своего рока – одиночества, полностью включаясь в одну из массовых групповых организаций. Причем, чем мощнее, монолитнее и результативнее по своим достижениям организации, тем в большей степени люди могут воспринимать себя избавленным от социальной и космической форм «бездомности». Очевидно, что причин для страха перед жизнью нет там, где нужно всего лишь привыкнуть к «всеобщей воле» и где собственная ответственность «поглощается» коллективной, и где вселенная заменяется технизированной природой.
©2015-2019 сайт
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-08-08